Петербург
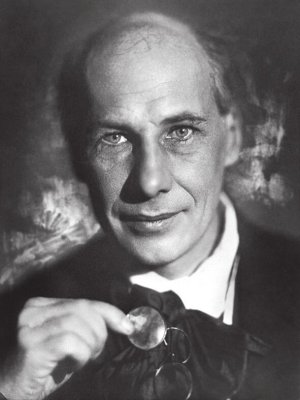
СОДЕРЖАНИЕ
- А. Мясников. Андрей Белый и его роман «Петербург»
- ЧАСТЬ I
- Пролог
- Глава первая, в которой повествуется об одной достойной особе, ее умственных играх и эфемерности бытия
- Глава вторая, в которой повествуется о неком свидании, чреватом последствиями
- Глава третья, в которой описано, как Николай Аполлонович Аблеухов попадает с своей затеей впросак
- Глава четвертая, в которой ломается линия повествования
- ЧАСТЬ II
- Эпилог
- П. Антокольский. «Петербург» Андрея Белого (Послесловие)
- Л. К. Долгополов. Комментарии
«Петербург» - одно из наиболее значительных произведений известного писателя-символиста Андрея Белого. В этом своеобразном по стилю, художественным приемам и философской проблематике романе критически освещается общественный строй царской России, мертвенность бюрократической системы царизма.
Тексты печатаются по изданию: Андрей Белый. Петербург. М., изд-во «Никитинские субботники», 1928
Андрей Белый и его роман «Петербург»
Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев, 1880-1934) был разносторонне одаренным человеком. Роман «Петербург» написан поэтом, опубликовавшим к тому времени три сборника стихов («Золото в лазури», 1904; «Пепел» и «Урна», 1909), автором четырех «Симфоний» («Героическая» или «Северная» 1901; «Драматическая», 1902; «Возврат», 1905; «Кубок метелей», 1908) и повести «Серебряный голубь» (1909); теоретиком символизма – его многочисленные статьи и исследования по теории и истории литературы лишь частично вошли в книги «Луг зеленый» (1910), «Символизм» (1910), «Арабески» (1911).
Роман «Петербург» создавался Белым в 10-х годах нашего века (печатался в альманахе «Сирин», отдельное издание появилось в 1916 году), в годы перед первой империалистической войной, в накаленной предреволюционной атмосфере, когда духовная жизнь страны стремительно изменялась. Позади был уже опыт русской революции 1905 года.
«Петербург» – роман о революции, роман о русской революции, написанный рукой одного из крупнейших теоретиков и художников символизма.
Александр Блок назвал 1910 год годом кризиса русского символизма. И этот кризис выразился не только в том, что в 1909 году прекратили свое существование ведущие журналы символизма «Весы» и «Золотое руно», но и потому, что чаемого возрождения общества, в которое так веровали символисты, в том числе и Белый, в начале века, не произошло. «Теза» надежд и предчувствий сменилась «антитезой» черных дней реакции. Символизм переживал глубочайший кризис, как метод искусства он не выдержал испытания временем. Подъем освободительного движения в России помог многим писателям по-новому посмотреть на задачи художника.
В этих сложных условиях философской и эстетической борьбы первых десятилетий XX века вызревала у Белого мысль о создании большого эпического полотна.
Эпоха подготовки и крушения первой русской революции отражена с разных позиций в ряде произведений тех лет: в романах М. Горького «Мать», А. Серафимовича «Город в степи», Ф. Сологуба «Творимая легенда», Л. Андреева «Сашка Жегулев» и других. Каждый из этих художников пытался разобраться в сложнейших социальных событиях, по-своему осмыслить невиданный подъем освободительного движения, извлечь из движения народных масс свои уроки.
«Океан народной страсти, в щепы дробящий утлый трон» (В. Брюсов) требовал и новых форм художественного воплощения. Материал был новый, злободневный, непривычный. Не все писатели обладали даром исторической проницательности, как Горький или Серафимович. Но даже в произведениях писателей, далеких от освободительной борьбы пролетариата, были отражены некоторые стороны революции, хотя многое было искажено ложными историческими концепциями, классовыми симпатиями и антипатиями.
Среди этих произведений особое место занимает роман Белого «Петербург». Как справедливо заметил А. В. Луначарский, роман А. Белого «довольно удачно передает то смятение умов и чувств, которое господствовало в так называемом «обществе» Петербурга перед революцией»1. Это «смятение умов и чувств» оказало влияние и на историческую концепцию писателя. Создавая роман о современности, он ставил и по-своему решал важные социальные проблемы. И в этом смысле «Петербург» – прежде всего социально-политический роман. При этом необходимо учитывать, что «луч» или «центр зрения» писателя, по терминологии А. Толстого2, часто существенно отклонялся от исторической правды, иногда даже противостоял ей. А. Белый был убежденным идеалистом. В своей книге «Революция и культура» (1917) он писал: «Революция производственных отношений есть отражение революции, а не сама революция; экономический материализм полагает лишь в ней чистоту; и полагает он: революции духа – не чисты; они буржуазны»3. В каждом человеке, доказывал Белый, происходит борьба между косным «я» и высшим «я». Первый акт жизнестроительства – это создание мира искусств. Второй акт – создание себя по образу и подобию этого мира. Косное «я» стоит на страже и не пускает творца в созданное им царство свободы. В этом – трагедия творчества. «Кто же смог переступить этот порог, тот торжественно входит в это царство свободы»4
А. Белый отождествлял экономический материализм с его бездуховностью и упрощенностью в решении социальных проблем с историческим материализмом. Экономическому материализму, ненавистному ему, он противопоставлял собственную концепцию исторического развития.
В романе «Петербург» можно условно вычленить три аспекта, которые раскрывают основы исторических воззрении писателя. Это проблема Востока и Запада, судьбы послепетровской России и проблемы революции 1905 года.
Все эти проблемы в их сложном переплетении и определили не только «угол зрения» писателя, но композиционный и сюжетнообразный строй романа «Петербург».
«Восток или Запад» – так предполагал назвать писатель свою неосуществленную трилогию.
«Серебряный голубь» – повесть, в которой, по мысли Белого, «рассказан лишь эпизод из жизни сектантов», но эпизод, имеющий в то же время «самостоятельное значение». В этом произведении автор выносил свой приговор господствующим классам общества. Но кроме буржуазно-демократических слоев, обреченных на гибель, писатель угадывает и демократическую, «молодую Россию». Он видит светлую мистическую силу народа и темное начало в нем и считает, что спасти народ могут только религиозные сектанты, «голуби», духовно сплотившиеся в единый коллектив.
И в этой повести автор и его герои размышляют о том, что дал России Запад. Белый доказывал, и в этом своеобразие его исторической концепции, что сближение России с Западом вызовет мировой пожар, в котором сгорят рационалистические книги Запада и восторжествует народная Душа России.
Вторая часть неосуществленной трилогии – «Путники» должна была рассказать о дальнейших судьбах героев «Серебряного голубя» – Кати, Матрены, Кудеярова – после того, как главный герой, Дарьяльский, покинул сектантов. Эту повесть Белый не написал, он создал роман «Петербург» (который первоначально предполагал назвать «Лакированная карета»), сюжетно почти не связанный с повестью «Серебряный голубь».
Проблема Востока и Запада отнюдь не новая для русской литературы и общественной мысли: ее ставили еще западники и славянофилы, народники, «учитель» русского символизма Владимир Соловьев, ее ставил почти одновременно с Белым М. Горький. Постановка этой проблемы А. Белым осложнялась еще и тем, что сам писатель в те годы был увлечен антропософской доктриной немецкого философа Рудольфа Штейнера.
В романе «Петербург» А. Белый не ограничивается противопоставлением пассивного Востока активному Западу. Для него Восток и Запад это не только географические понятия, но и определенные модели человеческого поведения.
Одна из важнейших сцен романа – встреча Николая Аполлоновича, сына сенатора, убежденного неокантианца, случайного сообщника террористов, находящегося в «астральном сне», со своим далеким предком – преподобным туранцем. Николай Аполлонович пробовал доказать, что «монгольское дело» – это стихия «всеобщего разрушения».
«– Задача не понята, – возразил туранец, – параграф первый – Проспект».
– «Вместо ценности – нумерация: по домам, этажам и по комнатам на вековечные времена».
– «Вместо нового строя – зарегистрированная циркуляция граждан Проспекта».
– «Не разрушенье Европы – ее неизменность...»
– «Монгольское дело...»
Таким образом, по Белому, «монгольское дело» – это прямолинейность, застой, дисциплина, бездуховность, неизменность открытых истин, отсутствие всяческого творческого начала. Оно проникает в кровь и сознание людей, живущих как на географическом Востоке, так и на Западе. По этой ложной программе живет и отец Николая Аполлоновича сенатор Аблеухов, далекий потомок мирзы Аб-Лая, вышедшего из киргиз-кайсацкой орды, получившего при крещении имя Андрея и прозвище Ухов. «Для краткости после был превращен Аб-Лай-Ухов в Аблеухова просто», – о чем автор в стиле канцелярских донесений сообщает на одной из первых страниц романа.
А. Белый пользуется различными художественными приемами чтобы установить мнимую связь «монгольского дела» с современной жизнью. Так, Аполлон Аполлонович сам не знает, что он живет и действует по программе, выработанной его далекими предками. Никто не говорит ему об этом. Только в середине романа в астральном сне его сына раскрываются основные признаки «монгольского дела». В их свете читатель, вернувшись к первым главам романа, по-иному оценивает дела и мысли сенатора. Здесь автор романа пользуется композиционным приемом обратной связи: последующие картины новым «лучом зрения» освещают картины предыдущие. А сын сенатора в астральном сне увидел головы Кин-Фу-Дзы или Будды, почувствовал, что его далекие предки, находящиеся в сношениях с тибетскими ламами, щедро наградили его кровь восточными началами.
На протяжении всего романа автор стремится постоянно напомнить читателю о том, что вопрос о восточном деле не решен, что это дело – серьезное и угрожающее. Так, например, на балу у Цукатовых редактор консервативной газеты уверяет гостей в том, что существует определенная связь между японской войной, волнениями в Китае и событиями в России.
Многим героям романа чудятся то азиатские, то даже африканские нашествия на Европу, им кажется, что они уже слышат топот железных всадников Чингиз-Хана.
Однако Белый крайне противоречив. В художественной концепции романа он резко противопоставляет восточные и западные начала. Пройдет всего несколько лет, и Белый-публицист будет отрицать то, что утверждал Белый-художник. В вышедшей в 1918 году книге «На перевале. Кризис жизни» (Петроград, 1918) Белый будет указывать на многовековые плодотворные связи Востока и Запада. «Непростительно, – отметит он, – деление в наши дни на деторождающую, безмозглую Азию и на Европу – бездетную, но с идеями: на восток и на запад!»
С проблемой Востока и Запада тесно связаны размышления Белого и его героев о дальнейших путях развития России в послепетровское время. Эти сложные вопросы Белый пытается разрешить и через призму художественных образов, созданных классиками русской литературы, прежде всего Пушкиным, Гоголем, Достоевским. На страницах романа по Невскому проспекту ходят гоголевские Носы, Медный всадник скачет по городу и, сойдя с коня, приходит в гости к Дудкину, потомки псевдореволюционеров Достоевского опутывают бесовскими сетями провокаций тех, кто хочет делать революцию, и т. д.
В центре внимания писателя образ Петра. В романе он дан в многогранных ракурсах: как историческая личность, как монумент, стоящий на Сенатской площади, как Медный всадник, созданный гением Пушкина, как вневременной современник, пришедший к Дудкину, и вместе с тем – это емкий и грандиозный символ.
Именно с образом Медного всадника связаны размышления о дальнейших исторических судьбах России. Внутренний монолог Дудкина – ключ к разгадке проблемы о будущем России, как, надо думать, ее понимал А. Белый.
Возвращаясь домой по улицам революционного Петербурга, Александр Иванович размышляет о том, что с появлением Петра надвое разделилась Россия. «Ты, Россия, как копь! – думает Дудкин, глядя на памятник Петру. – В темноту, в пустоту занеслись два передних копыта; и крепко внедрились в гранитную почву – два задних». И далее Дудкин рассуждает о четырех возможных путях дальнейшего развития России, полагая, что они запечатлены в символическом образе монумента.
Во-первых, как петровский конь может оторваться от камня пьедестала, так некоторые из безумных сынов России оторвались от народной почвы. Но конь без узды может низринуться в водные хаосы.
Во-вторых, конь может в порыве броситься в воздух и вместе с сынами родины пропасть в облаках.
В-третьих, Россия, как петровский конь, вставший на дыбы, на долгие годы задумается над грозной своей судьбой.
В-четвертых, испугавшийся прыжка, копь может снова опустить копыта, чтобы, фыркая, понести огромного Всадника в глубину наших равнин.
«Да не будет!» – патетически взывает Дудкин, а вместе с ним и автор «Петербурга». Они предвидят горькие испытания, предначертанные родной стране, предчувствуют новую Цусиму, новую Калку, но верят в победу народа на новом Куликовом Поле.
Особое символическое значение имеет бредовая встреча Дудкина с Петром, пришедшим к нему на чердак. Писатель создает потрясающую по художественному мастерству сцену. Дудкин видел, как со скалы сорвался Всадник и полетел в туман к островам. Он услышал тяжелозвонкое цоканье (Белый в сноске указывает, что заимствовал этот эпитет у Пушкина; известно, что среди рисунков поэта есть один, изображающий скалу без Медного всадника).
У себя в жалкой каморке больной и измученный провокаторами Дудкин услышал, как что-то громадное, металлическое поднимается по лестнице, раздробляя ступени. В комнату Дудкина явился Медный гость. И вот каким предстал он перед ним: «...посередине дверного порога, из стен, пропускающих купоросного цвета пространства, – склонивши венчанную, позеленевшую голову и простирая тяжелую позеленевшую руку, стояло громадное тело, горящее фосфором... Плащ матовый отвисал тяжело – с отливающих блеском плечей и с чешуйчатой брони...»
Ритмическая, наполненная аллитерациями и ассонансами проза Белого напоминала читателю не только о Медном всаднике Пушкина, но и о роковых шагах Командора из его же маленьких трагедий. Знаменательно, что Петр обращается к Дудкину с приветствием «Здравствуй, сынок!». Воедино смыкаются, по Белому, западный рационализм Петра, отдалившегося от народа, с нигилизмом и скептицизмом Дудкина, тоже далекого от парода, революционера, обреченного провокаторами на чердачное одиночество. Писатель замечает: «Александр Иваныч, Евгений, впервые тут понял: столетие пробежал понапрасну...» История повторяется. В критике высказывалась мысль о том, что эта сцена «остается символом страшной силы русской государственности...»5. Однако можно сделать и другой вывод: самодержавный колосс не может не считаться с силами революции – он сам вынужден покинуть скалу и явиться к Неуловимому революционеру.
Если Дудкин символизирует собой силы, готовые ниспровергнуть петровские твердыни, то сенатор Аблеухов выступает в романе оплотом того гигантского бюрократического аппарата, который был создан Петром. Образ Аблеухова многозначен и сложен.
Белый указывал на его схожесть с гоголевскими Башмачкиным и Значительным лицом6; иногда его сравнивают с Карениным и Победоносцевым. Он близок к «монгольскому делу» не только по происхождению, но и по складу всей своей деятельности. И в то же время он не только сенатор созданного Петром Сената, но и убежденный защитник всей системы петровской государственности.
При чтении романа «Петербург» создается противоречивое впечатление. С одной стороны, жизнь полна конфликтов, стремительного движения. С другой – ничего не изменяется, все остается на своих местах. Это происходит оттого, что Белый, как и многие писатели-модернисты XX века, отрицал зависимость человека от окружающей социальной среды и возможность изменения человека и среды; считал, что только индивидуальная природа человека определяет нормы его поведения. Эта теория наложила отпечаток и на историческую концепцию Белого.
Автор «Петербурга» полагал, что история движется по замкнутому кругу. В знаменитой сцене встречи Петра и Дудкина читаем: «Медноголовый гигант прогонял чрез периоды времени вплоть до этого мига, смыкая весь круг; протекали века; и встал – Николай; и вставали на трон Александры; а Александр Иванович, тень, без устали одолевала периоды времени, пробегая по дням, по годам, по сырым петербургским проспектам...»
Эта глубоко реакционная философия круговорота истории вела Белого к пессимистическим выводам. «Я – гублю: без возврата!..» – такую фразу Дудкин слышал от уличного сыщика, и ее же повторил царь Петр. Мир вставал перед Белым трагически неизменным.
Ничего доброго не ждал А. Белый и от растущего капитализма. В предисловии к сборнику «Пепел» (1909) он писал: «Капитализм еще не создал у нас таких центров в городах, как на Западе, но уже разлагает сельскую общину; и потому-то картина растущих оврагов с бурьянами, деревеньками – живой символ разрушения и смерти патриархального быта. Эта смерть и это разрушение широкой волной подмывают села, усадьбы; а в городах вырастает бред капиталистической культуры»7
Этот «бред капиталистической культуры» тогдашней столицы Российской империи, «бред», осложненный взглядами писателя на проблему соотнесения Востока и Запада и историю послепетровской России, и нарисовал Белый в своем романе.
С проблемами Востока и Запада, с судьбами послепетровской России тесно сплетена третья проблема романа «Петербург» – проблема современности, русской революции 1905 года.
Л. Н. Толстой в предисловии к сочинениям Мопассана замечал, что цементом, скрепляющим произведение искусства, является «единство самобытного нравственного отношения автора к предмету»8. Предметом изображения в романе «Петербург» была Россия эпохи первой русской революции. Отношение А. Белого к революции, которое определяло идейные и структурные особенности романа, было сложным и противоречивым. Ось реальной картины и ось философско-исторической концепции писателя то сближались, то отталкивались друг от друга. По удачному выражению М. Пришвина, «законы истории не всегда совпадают с законами сердца»9. В ряде случаев картина революционных событий неизбежно искажалась. Это объясняется во многом тем, что в центре творческого внимания Белого были деятели эсеровской партии, ее анархо-террористического крыла. «Здесь есть черты, – отмечал Б. В. Михайловский, – взятые из истории эсеровской партии. Бегство Дудкина из Сибири в бочке из-под капусты – эпизод биографии эсера Гершуни. Мистические интересы были не чужды эсеру-террористу Б. Савинкову (Ропшину). Для образа Липпанченко взяты черты одного из руководителей эсеровской партии Евно Азефа, выдавшего полиции на протяжении ряда лет множество революционеров, которых казнили»10.
Образ революционера Дудкина дан в романе крупным планом. Настоящее его имя Алексей Алексеевич Погорельский. Он – потомственный дворянин, порвавший со своим классом и ставший, по уверению А. Белого, виднейшим деятелем русской революции. Однако его философские и социологические воззрения далеки от взглядов подлинных революционеров. Он убежденный ницшеанец, полагающий, что историю творят выдающиеся личности. Для него народные массы – только исполнительный аппарат пли клавиатура, по которой свободно летают пальцы пианиста, руководителя освободительного движения. «Собственно говоря, не я в партии; во мне партия», – утверждает он. Дудкин прозван Неуловимым. Он бежал из ссылки в Якутии и не знает, что он – в руках провокаторов.
Дудкин, проповедующий разрушение культуры, наступление эпохи здорового варварства, восхищающийся творениями Ницше, размышляющий о судьбах России, строящий грандиозные философские концепции, видящий спасение человечества в приближении к хаосу, загнан провокаторами на чердак и должен довольствоваться общением с полуграмотными людьми, подобранными провокаторами для слежки за ним (дворником Моржовым, участковым писцом Воронковым и сапожником Бессмертным). Одиночество, алкоголизм, беспрерывное курение, бессонницы привели Дудкина к душевной болезни, к слуховым и зрительным галлюцинациям. Это он видит скалу – пьедестал без Всадника, это к нему на чердак пришел Петр, который назвал его «сынком».
Трагикомически выглядит сцена, когда Дудкин, узнав о провокаторстве Липпанченко, прокрался к нему на дачу, убил его и с ножницами в руках сел на обнаженный труп своего врага в позе Петра.
На протяжении всего романа А. Белый подчеркивает детали, сближающие Дудкина с Аблеуховыми. То наяву, то в бреду ему являются какие-то «хари восточного происхождения», является загадочный Шишнарфнэ. Он тоже боится безмерного пространства. Его волнует «категория льда». Он подвержен «мозговой игре». Этими сопоставлениями А. Белый хочет уверить читателя, что в каких-то важных аспектах революция сближается с реакцией. Так происходил процесс искажения исторической правды в романе «Петербург».
Между тем анализ романа снова подтверждает закономерность, которая раскрыта В. И. Лениным на примере творчества Толстого: «И если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях»11. А. Белый по масштабу таланта не был художником, равным Толстому, по отмеченная закономерность была присуща и его творчеству. В романе «Петербург» тема революции проходит через все произведение, прямо или косвенно определяя его композицию, движение сюжета, расстановку отдельных образов, подобно весенним ручьям, бьется под снеговым покровом, порою пугая автора и его героев своим мощным и победоносным звучанием.
В романе царит атмосфера катастрофичности общественного и частного бытия. Кризисные явления потрясают мощный государственный аппарат, и его служители теряют всякую жизненную устойчивость. Рушится карьера и семейное благополучие сенатора Аполлона Аполлоновича Аблеухова, его сына Николая Аполлоновича. Дудкин утрачивает веру в революцию. Гибнет провокатор Липпанченко. Разрушается семья Лихутиных, сам поручик Лихутин пытается кончить жизнь самоубийством. Герои испуганы ощущением действия каких-то неподвластных их воле сил, готовых взорвать устойчивые основы бытия, как ежесекундно может взорваться «сардинница ужасного содержания» – бомба, переданная Дудкиным младшему Аблеухову. Взаимоотношения героев осложнены густой сетью провокаций, значение которых в революционном движении А. Белый сильно преувеличивал.
Во второй главе романа дана очень многозначительная подглавка: «Учащались ссоры на улицах». В ней автор воссоздает атмосферу событий в России революционного 1905 года. Волновались заводы, бунтовали крестьяне, выступала против самодержавного строя интеллигенция. Высокая патетика кованой, ритмической прозы выражает величие и ужас происходящих событий. «Уууу-уууу-ууу» – так звучало в пространстве. «И – был ли то звук?» – спрашивал Белый и отвечал так: «Звук – какого-то небывалого смысла; и он достигал редкой силы и ясности; «уууу-уууу-ууу» раздалось негромко в полях пригородных Москвы, Петербурга, Саратова: но фабричный гудок не гудел; ветра не было; и – безмолвствовал пес. Слышал ли ты октябревскую эту песню: тысяча девятьсот пятого года?»
Белый точно указал дату тех событий, которые отображены в его романе, – октябрь 1905 года.
«Петербург» – остро конфликтное произведение, что находит выражение в его сюжете, композиции, образной системе. В романе противопоставлены два непримиримых мира. Один – это мир планомерности и симметрии, порядка, прямолинейных проспектов л прямолинейных суждений, мир, созданный восточными предками и петровскими законодательствами. Другой – это мир Островов, хаоса и вражды.
Уже в начале романа А. Белый сталкивает ярких выразителей этих антагонистических сил – сенатора Аблеухова и Дудкина. Высокий сановник Аблеухов готовится ехать в возглавляемое им Учреждение. Подробно описано утро сенатора, его завтрак, разговоры, занятия, путь в Учреждение. Параллельно рисуется утро Дудкина на Островах и его путь в город. Он несет бомбу. Пути их пересекаются. Аблеухов в карете считал себя в безопасности, защищенным четырьмя плоскостями. И вдруг оп увидел незнакомца с узелком и, почувствовав его полный ненависти взгляд, ощутил полную незащищенность. «...Лицо его сморщилось и передернулось тиком; судорожно закатились глаза, обведенные синевой; кисти рук подлетели на уровень груди. И корпус откинулся, а цилиндр, стукнув в стенку, упал на колени... Безотчетность движенья не поддавалась толкованию; кодекс правил сенатора не предусматривал...»
Позже А. Белый писал о том, как много работал он над жестами героев, которые «даны пантомимически, т. е. сознательно утрированы, главное содержание душевной жизни героев дано не в словах, а в жесте»12. Вышеприведенный пример показывает, какого художественного эффекта достигал А. Белый этим приемом изображения. Аблеухов не только боялся Островов, он их ненавидел, в мыслях своих готов был их раздавить, приковать к земле железом мостов, проткнуть со всех сторон стрелами проспектов. Но, несмотря на ярость сенатора, Острова проникали в город могучими демонстрациями.
В газетных вырезках «Дневника происшествий» сообщается о появлении в Петербурге таинственного Красного домино. Читатель знает, что это был Николай Аблеухов, который решил попугать пошленькую дамочку. Но Красное домино оказалось страшным для высших кругов Петербурга потому, что на него упал отблеск красного знамени революции. Это по-своему понял сенатор Аблеухов: «красный цвет был эмблемой Россию губившего хаоса». Так бытовой факт приобрел значение многозначного символа. На страницах романа часто встречается образ грозных в своем величии многотрубных заводов, окружающих Петербург, пугающих обывателей и сановников волной революционных демонстраций под красными знаменами.
Гул толпы, многоголосый, часто безымянный мощный ее хор то там, то здесь врывается в ритм повествования, выводит читателя на площади и улицы столицы и ее окрестностей. Все громче и настойчивее звучат речи о революции и эволюции, о забастовках и крестьянских бунтах.
Своеобразной особенностью композиции романа является присутствие на его страницах всеведущего автора, который не скрывается, как это старался делать, например, Г. Флобер, а открыто присутствует в произведении. Он знает больше, чем знают его герои или читатель. Это он вместе с созданными им героями размышляет об отношениях Востока и Запада, о характере и судьбах петровских преобразований, о русской революции и ее предпосылках; Автор часто обращается непосредственно к читателю, полагая найти в нем единомышленника.
Так, он вводит читателя в свою творческую лабораторию, когда вслух размышляет о таинствах «мозговой игры» сенатора Аблеухова: «Мозговая игра – только маска; под этою маскою совершается вторжение в мозг разнообразия сил: и пусть Аполлон Аполлонович соткан из нашего мозга, он сумеет все-таки напугать неким, потрясающим бытием, нападающим ночью: «...атрибутами этого бытия наделена вся его мозговая игра».
Или еще. Рассуждения Дудкина о круговороте истории завершаются прямым авторским обращением к читателям: «...а вдогонку за ним и вдогонку за всеми, – гремели удары металла, дробящие жизни. Тот грохот я слышал; ты – слышал ли?»
Писатель мастерски владеет искусством портрета. Ярко изображен один из столпов императорской государственности – сенатор Аполлон Аполлонович Аблеухов. Образ строится на диспропорции между физическим и духовным ничтожеством героя и той огромной властью, которой он наделен.
В изображении романа Аблеухова с Анной Петровной читатель улавливает нечто вроде пародии на некоторые сюжетные линии романа «Анна Каренина» Толстого. Стареющий сановник женится на молодой и красивой женщине, она полюбила другого человека, ушла от мужа, потом приходит на свидание с сыном и т. д.13. Но образ сенатора Белый рисует одновременно в водевильном и гротескном плане14. В несколько сентиментальном духе изображается примирение супругов Аблеуховых и их семейная идиллия. Л. Н. Толстой нарисовал трагедию любви, А. Белый показал, как трагедия переросла в фарс.
В лучших традициях щедринской сатиры дано изображение Учреждения, которое возглавляет Аблеухов, и зловещий портрет главы этого Учреждения. Белый запечатлевает его в момент бюрократического творчества. Он как бы парил над бескрайними просторами России. Внутреннее его ничтожество раскрывается и через поведение в быту: он завел особую номенклатуру полок с цифрами и буквенными знаками для предметов своего туалета.
Полнейшее изобличение героя происходит в момент, когда он лишился власти. Потеряв золотой мундир, он предстает перед читателем геморроидальным стариком с прерывисто дышащей волосатой грудью. Король оказался голым!
Такой же прием полнейшей дискредитации, дегероизации использован и по отношению к Дудкину. Гордый ницшеанец, прозванный Неуловимым, оказывается послушной пешкой в руках провокаторов, «человеком с усиками», пародийно схожим с Медным всадником. Двуликим Янусом предстает в романе и младший Аблеухов. Одни считают его красавцем, другие – уродом. Для Софьи Петровпы он и красный шут, и одновременно – лягушонок. Сутуловатый, в своей николаевской шинели, он иногда казался одноруким или однокрылым.
Итак, роман «Петербург» был написан рукой одного из крупнейших художников и теоретиков символизма. И в современной критике сложилась традиция называть этот роман наивысшим достижением символистской прозы.
Так ли это? Отражает ли этот роман действительность с позиций художественного метода символистов с их учением о двоемирин, с теорией соответствий, символов, намекающих на потусторонние сущности?
Роман А. Белого не «вмещается» в рамки ни одного из существовавших в те годы литературных направлений, в нем переплетаются разные художественные тенденции, которые и породили односторонние оценки этого противоречивого и сложного произведения. Символисты использовали символ для косвенной передачи в искусстве сверхчувственного, потустороннего, «тайны» – иными словами, провозглашали принцип двоемирия. Вслед за Ш. Бодлером они пытались установить известное соответствие между звуками, цветами и запахами и вслед за П. Верленом боролись за внесение духа музыки в поэзию.
В романе «Петербург» немало таких образов-символов, вызывающих сложные и многогранные ассоциации. Некоторые символические образы несут на себе огромную смысловую нагрузку, проходят через весь роман, определяя движение сюжета и судьбы его героев. Таковы образы Петербурга, Востока и Запада, красного и белого домино, «сардинницы ужасного содержания», каменной кариатиды, поддерживающей карниз входа в то Учреждение, где руководителем был сенатор Аблеухов. Она немой свидетель многих событий российской истории и как бы символизирует тезис – все изменяется, все проходит, а жизнь остается в своих основах все такой же, и в то же время даже старая кариатида ощущает, что так жить нельзя. Ей хочется распрямиться и раздавить стаи котелков праздной петербургской толпы. Веяние революционных событий оживляет даже камень!
Грандиозен и многоакцентен образ Петербурга в этом романе. Перед читателями встает Петербург Пушкина, Петербург Достоевского, Петербург Аблеуховых, Петербург Дудкина, – Петербург, переплавленной творческим воображением самого Белого.
Сложные ассоциации возникают в романе и в результате взаимоосвещения не зависимых, казалось бы, друг от друга сцен. Так, готовящееся отцеубийство наводит автора на мысль о преступлении в Михайловском замке – этом «мрачном месте», где был задушен император Павел. Современность в романе А. Белого «вглядывается» в историю. Неизменность человеческих драм всех веков как бы иллюстрируют формулу Леонида Андреева «так было, так будет».
И все же изучение символики А. Белого приводит к мысли, что в системе символов романа «Петербург» почти нет намека на то двоемирие, которое определяло основы эстетической и философской системы символистов, рассматривающей явления реальной жизни и художественные образы лишь как отражение потусторонних миров. В романе причудливо переплетаются реалистические и декадентские тенденции.
В эпоху, когда некоторые литературные группы демонстративно утверждали, что реализм умер, что пора сбросить классиков с парохода современности, писатель, по-своему осмысляя образы классической литературы, опирался на них, смело вводил их в ткань своего романа. На произведении А. Белого явственно ощутимо влияние русского социально-психологического романа, осложненного открытиями XX века – условно-метафорическими формами, сложными ассоциациями. Так, для стиля романа характерны элементы экспрессионизма. Вещи живут не менее активной жизнью, чем люди: зеркала смеются, тротуары шепчут и шаркают, навстречу летят проспект за проспектом, и т. д.
Все эти различные стилевые тенденции, сосуществующие в романе, и дали основание А. В. Луначарскому назвать «Петербург» вычурным, но и крупнейшим художественным произведением, отражающим смятение умов определенных кругов общества накануне революции. Роман А. Белого отражает не только смятение его героев, но и растерянность автора, который понимал, что так жить, как жила Россия тех времен, уже невозможно, а как нужно жить, он не знал.
1 А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8-ми томах, т 3. М., «Художественная литература», 1964, с. 279.
2 «А. Толстой о литературе». М., «Советский писатель», 1956, с 208.
3 А. Белый. Революция и культура. М., 1917, с. 19.
4 А. Белый. Революция и культура, с. 24.
5 «Развитие реализма в русской литературе», т. 3. М., «Наука», 1974, с. 223-224.
6 А. Белый. «Мастерство Гоголя». М., ГИХЛ, 1934, с. 305.
7 А. Белый. Стихотворения и поэмы. М.-Л., «Советский писатель», 1966, с. 544.
8 Л. Н. Толстой. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 15. М., «Художественная литература», 1964. с. 264.
9 М. М. Пришвин. Собр. соч., т. 2. М., 1956, с. 793.
10 Б. В. Михайловский. Избранные статьи о литературе и искусстве. М., Изд-во МГУ, 1969, с. 451.
11 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, с. 206.
12 А. Белый. Маски. М., ГИХЛ, 1932, с. 11.
13 Б. В. Михайловский. Избранные статьи о литературе и искусстве, с. 450.
14 В. С. Перцов. Писатель и новая действительность. М., 1961, с. 301.
ПЕТЕРБУРГ
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
В последнем русском издании автор следует берлинскому изданию «Петербурга» (1922 г.); это издание значительно сокращает текст (более чем на треть); сличение двух вариантов дает совсем разное впечатленье от них; кажется, будто нечто основное изменилось в «Петербурге»; для читателей первого издания – «Петербург» данного издания – новая книга.
Для автора она лишь возвращение к основному замыслу, а первое издание – черновик, который судьба (спешность срочной работы) не позволила доработать до чистовика; сухость, краткость, концентрированность изложения (так виделся автору «Петербург» в замысле) черновик превратил в туманную витиеватость.
Особенно радует автора, что этим изданием снимается с него вина полной перекалеченности основного «драматического» текста «Петербурга»; но это не вина автора, а судеб постановки драмы «Петербург».*1
Кучино
12 декабря 1927 г.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПРОЛОГ
Ваши превосходительства, высокородия, благородия, граждане!
Что есть Русская Империя наша?
Русская Империя наша есть географическое единство, что значит: часть известной планеты. И Русская Империя заключает: во-первых – великую, малую, белую и червонную Русь; во-вторых – грузинское, польское, казанское и астраханское царство; в-третьих, она заключает... – Но – прочая, прочая, прочая.*2
Русская Империя наша состоит из множества городов: столичных, губернских, уездных, заштатных; и далее: – из первопрестольного града и матери градов русских.
Град первопрестольный – Москва; и мать градов русских есть Киев.
Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что то же), подлинно принадлежит Российской Империи. А Царь-град, Константиноград (или, как говорят, Константинополь), принадлежит по праву наследия.*3 И о нем распространяться не будем.
Распространимся более о Петербурге: есть Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что – то же). На основании тех же суждений Невский Проспект есть петербургский Проспект.
Невский Проспект обладает разительным свойством: он состоит из пространства для циркуляции публики; нумерованные дома ограничивают его; нумерация идет в порядке домов, – и поиски нужного дома весьма облегчаются. Невский Проспект, как и всякий проспект, есть публичный Проспект; то есть: проспект для циркуляции публики (не воздуха, например); образующие его боковые границы дома суть – гм... да:... для публики. Невский Проспект по вечерам освещается электричеством. Днем же Невский Проспект не требует освещения.
Невский Проспект прямолинеен (говоря между нами), потому что он – европейский проспект; всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а (как я уже сказал) проспект европейский, потому что... да...
Потому-то Невский Проспект – прямолинейный проспект.
Невский Проспект – немаловажный проспект в сем не русском – столичном – граде. Прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек.
И разительно от них всех отличается Петербург.
Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду – существование полуторамиллнонного московского населения, – то придется сознаться, что столицей будет Москва, ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население; а в городах ?ке губернских никакого полуторамиллионного населения нет, не бывало, не будет. И согласно нелепой легенде окажется, что столица не Петербург.
Если же Петербург не столица, то – нет Петербурга.*4 Это только кажется, что он существует.
Как бы то ни было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается – на картах; в виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкою в центре; и из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он – есть*5: оттуда из этой вот точки несется потоком рой отпечатанной книги; несется из этой невидимой точки стремительно циркуляр.
ГЛАВА ПЕРВАЯ,
в которой повествуется об одной достойной особе, ее умственных играх и эфемерности бытия.|
Была ужасная пора: О ней свежо воспоминанье... О ней, друзья мои, для вас Начну свое повествованье. Печален будет мой рассказ...*6 |
АПОЛЛОН АПОЛЛОНОВИЧ АБЛЕУХОВ
Аполлон Аполлонович Аблеухов был почтенного рода: имел своим предком Адама. И это не главное: важней, что один из этого почтенного рода был Сим*7: прародитель семитских, хесситских и краснокожих народностей.
Здесь сделаем переход к предкам не столь удаленной эпохи.
Они проживали в киргиз-кайсацкой орде*8, откуда в царствование императрицы Анны Иоанновны*9 доблестно поступил на русскую службу мирза Аб-Лай, прапрадед сенатора*10, получивший при христианском крещении имя Андрея и прозвище Ухова. Для краткости после был превращен Аб-Лай-Ухов уже в Аблеухова просто.
Этот прапрадед и оказался истоком рода.
Серый лакей с золотым галуном пуховкою стряхивал пыль с письменного стола; в открытую дверь заглянул колпак повара.
– «Сам-то, вишь, встал...»
– «Обтираются одеколоном, скоро пожалуют к кофию...»
– «Утром почтарь говорил, будто барину – письмецо из Гишпании; с гишпанскою маркою».
– «Я вам вот что замечу; меньше бы вы в письма-то совали свой нос...»
Голова повара вдруг пропала. Аполлон Аполлонович Аблеухов прошествовал в кабинет.
Лежащий на столе карандаш поразил внимание Аполлона Аполлоновича. Аполлон Аполлонович принял намеренье: придать карандашному острию отточенность формы. Быстро он подошел к письменному столу и схватил... пресс-папье, которое долго он вертел в глубокой задумчивости.
Рассеянность проистекла оттого, что в сей миг его осенила глубокая дума; и тотчас же, в неурочное время, развернулась она в убегающий мысленный ход.
Развернувшийся мысленный ход Аполлон Аполлонович стал записывать быстро: записав этот ход, он подумал: «Пора и на службу». И прошел в столовую откушивать кофей свой.
Предварительно с настойчивостью стал допрашивать он камердинера старика:
– «Николай Аполлонович встал?»
– «Никак нет: еще не встали...»
Аполлон Аполлонович недовольно потер переносицу:
– «Ээ... скажите: когда же – скажите – Николай Аполлонович, так сказать...»
И тотчас, не дожидаясь ответа, прошествовал к кофею, посмотрев на часы.
Было ровно половина десятого.
Каждое утро сенатор осведомлялся о часах пробуждения. И каждое утро он морщился.
Николай Аполлонович был сенаторский сын.
СЛОВОМ, БЫЛ ОН ГЛАВОЙ УЧРЕЖДЕНИЯ...
Каково же было общественное положение из небытия восставшего здесь лица?
Думаю, что вопрос достаточно неуместен: Аблеухова знала Россия по отменной пространности им произносимых речей; эти речи безгромно струили какие-то яды, в результате чего предложение партии там, где следует, отклонялось.*11 С водворением Аблеухова на ответственный пост Департамент*12 девятый бездействовал. С Департаментом этим Аполлон Аполлонович вел упорную брань и бумагами и, где нужно, речами, способствуя ввозу в Россию американских сноповязалок. (Департамент девятый за ввоз не стоял.)
Аполлон Аполлонович был главой Учреждения; ну, тог о... как его?
Если сравнить худосочную, совершенно невзрачную фигурку моего почтенного мужа с неизмеримой громадностью им управляемых механизмов, можно было б надолго, пожалуй, предаться наивному удивлению; но ведь вот – удивлялись решительно все взрыву умственных сил, источаемых этою вот черепною коробкою наперекор всей России.
Моему сенатору только что исполнилось шестьдесят восемь лет; и лицо его, бледное, напоминало и серое пресс-папье (в минуту торжественную), и – папье-маше (в час досуга); каменные сенаторские глаза, окруженные черно-зеленым провалом, в минуты усталости казались синей и громадней.
От себя еще скажем: Аполлон Аполлонович не волновался нисколько при созерцании совершенно зеленых своих и увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне горящей России. Так был он недавно изображен: на заглавном листе уличного юмористического журнальчика*13, одного из тех «
СЕВЕРО-ВОСТОК
В дубовой столовой уже куковала стенная кукушка; Аполлон Аполлонович сел перед фарфоровой чашкою и отламывал теплые корочки хлеба; за кофием – даже, даже – пошучивал он:
– «Кто всех, Семеныч, почтеннее?»
– «Полагаю я, Аполлон Аполлонович, что почтеннее – действительный тайный».
Аполлон Аполлонович улыбнулся одними губами:
– «Не так полагаете: трубочист...»
Камердинер уж знал окончание каламбура: об этом – молчок.
– «Почему же, осмелюсь спросить?»
– «Перед действительным тайным, Семеныч, сторонятся...»
– «Полагаю, что – так...»
– «Трубочист... Перед ним посторонится и действительный тайный: запачкает трубочист».
– «Вот оно как-с» –
– «Так-то вот: только есть еще должность почтеннее...»
И тут же прибавил:
– «Ватерклозетчика...»
– «Пфф...»
И – глоток кофея.
– «Вот-с, Аполлон Аполлонович, тоже бывало: Анна Петровна...»
При слове же «Анна Петровна» седой камердинер осекся.
– «Пальто серое-с?»
– «Серое...»
– «И перчатки-с?»
– «Перчатки мне замшевые...»
– «Потрудитесь, ваше высокопревосходительство, обождать-с: перчатки-то у нас в шифоньерке: полка-бе – северо-запад».
Аполлон Аполлонович только раз вошел в мелочи жизни: проделал ревизию инвентарю; инвентарь был регистрирован в порядке и установлена номенклатура всех полок и полочек; появились полочки под литерами: а, бе, це; а четыре стороны полочек приняли обозначение четырех сторон света.*14
Уложивши очки свои, Аполлон Аполлонович отмечал у себя на реестре мелким, бисерным почерком: очки, полка-бе и св, то есть северо-восток, копию же с реестра получил камердинер.
В лакированном доме житейские грозы протекали бесшумно; тем не менее грозы житейские протекали здесь гибельно.
БАРОН, БОРОНА
Со стола поднялась длинноногая бронза; ламповый абажур не сверкал фиолетово-розовым тоном, расписанным тонко: секрет этой краски наш век утерял; стекло потемнело от времени; и – тонкая роспись.
Золотые трюмо отовсюду глотали гостиную зеленоватыми поверхностями зеркал; их увенчивал крылышком золотощекий амурчик; поблескивал перламутровый столик.
Аполлон Аполлонович распахнул быстро дверь, опираясь рукой на хрустальную, граненую ручку; по блистающим плитам паркетиков застучал его шаг; отовсюду бросились горки фарфоровых безделушек; безделушечки эти вывезли они из Венеции, он и Анна Петровна, тому назад – тридцать лет. Воспоминание о туманной лагуне, гондоле и арии, рыдающей в отдалении, промелькнуло некстати так в сенаторской голове.
Тотчас же глаза перевел на рояль он.
С желтой лаковой крышки там разблистались листики бронзовой инкрустации; и опять (докучная память!) Аполлон Аполлонович вспомнил: белую петербургскую ночь; в окнах бежала река; и стояла луна; и гремела рулада Шопена: помнится – игрывала Шопена (не Шумана) Анна Петровна*15...
Разблистались листики инкрустации – перламутра и бронзы – на коробочках, полочках, выходящих из стен. Аполлон Аполлонович уселся в ампирное кресло, где на бледно-лазурном атласе сидения завивались веночки; и с китайского он подносика ухватился рукою за пачку нераспечатанных писем; наклонилась к конвертам лысая его голова.
И конвертики разрывались: обыкновенный, почтовый – марка наклеена косо:
– «Так-с, так-с, хорошо-с...»
– «Просьба. .»
– «Просьба и просьба...»
Со временем, потом: как-нибудь...
Конверт из массивной бумаги – и с вензелем, с печатью на сургуче.
– «Мм... Граф Дубльве.*16.. Что такое?..»
– «Ммм...»
Граф Дубльве был начальник девятого Департамента.
Далее... Бледно-розовый, миниатюрный конвертик; рука у сенатора дрогнула; он узнал этот почерк: – разглядывал испанскую марку, но – конверта не распечатал:
– «Деньги были же посланы?»
– «Деньги посланы будут!!!»
И Аполлон Аполлонович, думая, что достал карандашик, вытащил из жилета костяную щеточку для ногтей и ею же собирался сделать пометку...
– «?...»
– «Поданы-с...»
Аполлон Аполлонович поднял лысую голову и прошел вон из комнаты.
Над роялем висела уменьшенная копия с картины Давида*17 «Distribution des aigles par Napoleon premier».
Картина изображала надменного Императора в венке и горностайной порфире.
Холодно было великолепье гостиной от полного отсутствия ковриков: блистали паркеты; если бы солнце на миг осветило их, то глаза бы невольно зажмурились.
Но сенатором Аблеуховым холодание возводилось в принцип.
Оно запечатлевалось: в хозяине, в статуях, в слугах, даже в тигровом темном бульдоге, проживающем где-то близ кухни; в этом доме конфузились все, уступая паркету, картинам и статуям, улыбаясь, конфузясь и глотая слова: угождали и кланялись, и ломали холодные пальцы в порыве бесплодных угодливостей.
С отъездом Анны Петровны: безмолвствовала гостиная, опустилась крышка рояля: не гремела рулада.
Когда Аполлон Аполлонович спустился в переднюю, то его седой камердинер, спускаясь в переднюю тоже, поглядывал на почтенные уши, сжимая в руке табакерку – подарок министра.
Аполлон Аполлонович остановился на лестнице. Аполлон Аполлонович подыскивал подходящее слово:
– «Что вообще – да – поделывает... поделывает...»
– «?...»
– «Николай Аполлонович».
– «Ничего себе здравствуют...»
– «А еще?»
– «Затворяться изволят и книжки читают».
– «И книжки?»
– «Гуляют по комнатам-с...»
– «Гуляют – ...И? Как?»
– «В халате-с!.„»
– «Так... Дальше?»
– «Вчера поджидали...»
– «Кого?»
– «Костюмера...»
– «Какой такой костюмер?»
– «Костюмер-с...»
Аполлон Аполлонович потер себе переносицу: лпцо его просветилось и стало вдруг старческим:
– «Ну, так вы – знаете ли – барон».
– «?»
– «Борона у вас есть?»
– «Борона была-с: у родителя».
– «Ну, вот видите, а еще говорите...»
КАРЕТА ПОЛЕТЕЛА В ТУМАН
Изморось поливала улицы и проспекты, тротуары и крыши.
Она поливала прохожих: и награждала их гриппами; ползли вместе с пылью дождя инфлуэнцы и гриппы под приподнятый воротник: гимназиста, студента, чиновника, офицера, субъекта; субъект озирался тоскливо; глядел на проспект; циркулировал он в бесконечность проспектов без всякого ропота – в потоке таких же, как он – среди лёта и грохота, слушая голос автомобильных рулад.
– И – спотыкался о набережную, где приканчивалось все: глас рулады, субъект.
Издалека-далека, будто дальше, чем следует, опустились испуганно и принизились острова; и принизились здания; казалось – опустятся воды, и хлынет на них в этот миг: глубина, зеленоватая муть; а над этою зеленоватою мутью в тумане гремел и дрожал Николаевский мост.
В хмурое утро распахнулись двери желтого дома: дом окнами выходил на Неву; и лакей с галуном бросился подавать знаки кучеру. Серые кони рванулись и подкатили карету, на которой был выведен герб: единорог, прободающий рыцаря.*18
Молодцеватый квартальный, проходивший мимо крыльца, поглупел и вытянулся в струну, когда Аполлон Аполлонович Аблеухов в сером пальто и в высоком черном цилиндре с каменным лицом, напоминающим пресс-папье, быстро выбежал из подъезда и еще быстрее вбежал на подножку кареты, на ходу падевая верную замшевую перчатку.
Аполлон Аполлонович Аблеухов бросил мгновенный, растерянный взгляд на квартального надзирателя, на карету, на кучера, на большой черный мост, на пространство Невы, где так блекло чертились туманные, многотрубные дали, и оттуда испуганно поглядел Васильевский Остров.
Серый лакей поспешно хлопнул каретною дверцею. Карета стремительно пролетела в туман; и случайный квартальный глядел через плечо в грязноватый туман – туда, куда стремительно пролетела карета; вздохнул и пошел; посмотрел туда же лакей: на пространство Невы, где так блекло чертились туманные, многотрубные дали и откуда испуганно поглядел Васильевский Остров.
Здесь, в самом начале, должен я прервать нить моего повествования, чтоб представить читателю местодействие одной драмы.
КВАДРАТЫ, ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДЫ, КУБЫ
Там, где взвесилась только одна туманная сырость, матово намечался сперва, потом с неба на землю спустился – грязноватый, черновато-серый Исакий*19; намечался и вовсе наметился: конный памятник Императора Николая*20, у подножия из тумана просунулся косматою шапкою николаевский гренадер.
Карета летела на Невский.
Аполлон Аполлонович Аблеухов покачивался на атласных подушках сиденья; от уличной мрази его отграничили четыре перпендикулярные стенки; так он был отделен от людей и от мокнущих красных оберток журнальчиков, продаваемых вон с того перекрестка.
Планомерность и симметрия успокоили нервы сенатора, возбужденные и неровностью жизни домашней, и беспомощным кругом вращения нашего государственного колеса.
Гармонической простотой отличалися его вкусы.
Более всего он любил прямолинейный проспект; этот проспект напоминал ему о течении времени между двух жизненных точек.
Там дома сливалися кубами в планомерный, пятиэтажный ряд; этот ряд отличался от линии жизненной; здесь средина жизненных странствий носителя бриллиантовых знаков оказалась для скольких сановников окончанием жизненного пути.
Вдохновение овладевало душою сенатора, когда линию Невского разрезал лакированный куб: там виднелась домовая нумерация; и шла циркуляция; там, оттуда – в ясные дни, издалека-далека, сверкали слепительпо: золотая игла, облака, луч багровый заката; там, оттуда – в туманные дни, – ничего, никого.
А там были – линии: Нева, острова. Верно, в те далекие дни, как вставали из мшистых болот и высокие крыши, и мачты, и шпицы, проницая зубцами своими промозглый, зеленоватый туман, –
– на теневых своих парусах полетел к Петербургу Летучий Голландец*21 из свинцовых пространств балтийских и немецких морей, чтобы здесь воздвигнуть обманом свои туманные земли, и назвать островами волну набегающих облаков.
Аполлон Аполлонович островов не любил: население там – фабричное, грубое; многотысячный рой людской там бредет по утрам к многотрубным заводам; жители островов причислены к народонаселенью Империи; всеобщая перепись введена и у них.
Аполлон Аполлонович не хотел думать далее: острова – раздавить! Приковать их железом огромного моста, проткнуть проспектными стрелами...
Глядя мечтательно в ту бескрайность туманов, государственный человек из черного куба кареты вдруг расширился во все стороны и над ней воспарил; и ему захотелось, чтоб вперед пролетела карета, чтоб проспекты летели навстречу – за проспектом проспект, чтобы вся сферическая поверхность планеты оказалась охваченной, как змеиными кольцами, черновато-серыми домовыми кубами; чтобы вся, проспектами притиснутая земля, в линейном космическом беге пересекла бы необъятность прямолинейным законом; чтобы сеть параллельных проспектов, пересеченная сетью проспектов, в мировые бы ширилась бездны плоскостями квадратов и кубов: по квадрату на обывателя, чтобы...
После линии более всех симметричностей успокаивала его фигура – квадрат.
Он, бывало, подолгу предавался бездумному созерцанию: пирамид, треугольников, параллелепипедов, кубов, трапеций.
Аполлон Аполлонович наслаждался подолгу четырехугольными стенками, пребывая в центре черного, совершенного и атласом затянутого куба: Аполлон Аполлонович был рожден для одиночного заключения; лишь любовь к государственной планиметрии облекала его в многогранность ответственного поста.
Мокрый, скользкий проспект пересекся мокрым проспектом под прямым, девяностоградусным углом; в точке пересечения стал городовой...
И такие же точно возвышались дома, и такие же серые проходили там токи людские, и такой же стоял там зелено-желтый туман.*22
Но параллельно с бегущим проспектом был бегущий проспект с тем же рядом коробок, с тою же нумерацией, с теми же облаками.
Есть бесконечность бегущих проспектов с бесконечностью бегущих пересекающих призраков. Весь Петербург – бесконечность проспекта, возведенного в энную степень.
За Петербургом – ничего нет.
ЖИТЕЛИ ОСТРОВОВ ПОРАЖАЮТ ВАС
Был последний день сентября.
На Васильевском Острове, в глубине семнадцатой линии, из тумана глядел дом огромный и серый; вела к этажам грязноватая лестница: были двери и двери; одна отворилась.
И незнакомец с чернейшими усиками показался на пороге ее.
В руке у него равномерно качался не то, чтобы маленький, и все же не очень большой узелочек, перевязанный грязной салфеткой с красными каймами из линючих фазанов.
Лестница была черной, усеянной огуречными корками и йогой продавленным капустным листом. Незнакомец на пей поскользнулся.
Одной рукой он тогда ухватился за лестничные перила; другая рука (с узелком) описала зигзаг; незнакомец хотел охранить узелок от досадной случайности – от паденья на каменную ступень, потому что в движении локтя нарисовался фортель акробата.
Затем, в встрече с дворником, поднимавшимся вверх по лестнице с перекинутою охапкой осиновых дров, незнакомец усиленно стал выказывать попечение о судьбе узелка, могущего зацепить за полено.
Когда незнакомец спустился, то черная кошка, у ног, задрав хвост, пересекла дорогу, роняя к ногам незнакомца куриную внутренность; и лицо передернула судорога.
Эти движения свойственны барышням.
И такие же точно движения отмечают подчас изнуренных бессонницей современников. Незнакомец бессонницею страдал: прокуренность обиталища на то намекала; и – свидетельствовал синеватый отлив нежной кожи лица.
Незнакомец оставался на дворике, четырехугольнике, залитом сплошь асфальтом и отовсюду притиснутом пятью этажами многооконной громадины. Посредине двора были сложены отсыревшие сажени осиновых дров; и сквозь ворота был виден кусок семнадцатой линии, обсвистанной ветром.
Вы – линии!
В вас осталася память петровского Петербурга.
Параллельные линии некогда провел Петр*23; и они обросли то гранитом, то каменным, то деревянным забориком; линия Петра превратилась в линию позднейшей эпохи: в екатерининскую, округленную, в строй колоннад.
Меж громадин остались петровские домики; вон – бревенчатый; вон – зеленый; вот – синий, одноэтажный, с ярко-красною вывескою «Столовая»; прямо в нос еще бьют разнообразные запахи: пахнет солью морскою, селедкой, канатами, кожаной курткой и трубкой*24, и – прибережным брезентом.
О, линии!..
Как они изменились: как и их изменили суровые дни!
Незнакомец припомнил: в окошке того глянцевитого домика в летний вечер старушка жевала губами; с августа затворилось окошко; в сентябре пронесли глазетовый гроб.
Он думал, что жизнь дорожает; рабочему люду жить трудно; оттуда вонзается Петербург и проспектными стрелами и ватагою каменных великанов.
Оттуда вставал Петербург; из волны облаков запылали там здания; там, казалось, парил кто-то злобный, холодный; оттуда, из воющего хаоса, уставился кто-то каменным взглядом, в туман выдавался черепом и ушами.
Все то незнакомец подумал; зажал он в кармане кулак; и он вспомнил, что падали листья.
Все знал наизусть. Эти павшие листья – для скольких последние листья: он стал – синеватая тень.
От себя же мы скажем: о, русские люди, о, русские люди! Вы толпы теней с островов не пускайте! Через летийские воды*25 уже перекинуты черные и сырые мосты. Разобрать бы их...
Поздно...
И тени валили по мосту; и темная тень незнакомца,
В руке у нее равномерно качался не то, чтобы маленький, все же не очень большой узелочек.
И, УВИДЕВ, РАСШИРИЛИСЬ, ЗАСВЕТИЛИСЬ, БЛЕСНУЛИ...
С предтекущей толпой престарелый сенатор общался при помощи проволок (телеграфных и телефонных); поток теневой предносился, как мира спокойно текущая весть. Аполлон Аполлонович думал: о звездах; качаясь на черной подушке, высчитывал силу он света, воспринимаемого от Сатурна*26.
Вдруг... –
– лицо его сморщилось и передернулось тиком; судорожно закатились глаза, обведенные синевой; кисти рук подлетели на уровень груди. И корпус откинулся, а цилиндр, стукнув в стенку, упал на колени...
Безотчетность движенья не поддавалась толкованию; кодекс правил сенатора не предусматривал...
Созерцая текущие силуэты, Аполлон Аполлонович уподоблял их сияющим точкам; одна из сих точек, срываясь с орбиты, с головокружительной быстротой понеслась на него, принимая форму громадного и багрового шара: –
– из котелков увидал он с угла пару глаз: а глаза выражали недопустимое: они узнали сенатора; и, узнавши, сбесились, расширились, засветили, блеснули.
Углубляясь впоследствии в подробности обстоятельства, Аполлон Аполлонович скорее, чем вспомнил, сообразил, что в руке разночинец держал узелок.
Стиснутая потоком пролеток, карета остановилась у перекрестка; поток разночинцев прижался к карете сенатора, нарушая иллюзию, будто он, Аполлон Аполлонович, пролетая по Невскому, пролетает за миллиардами верст от людской многоножки; обеспокоенный, Аполлон Аполлонович придвинулся к стеклам; тут он увидал разночинца; потом вспомнил то лицо, озадаченный трудностью подвести его под любую из существующих категорий...
Тогда-то глаза незнакомца расширись, засветились, блеснули.
В роях грязноватого дыма, откинувшись к стенке кареты, в глазах видел он то же все; сердце билось; и ширилось; а в груди родилось ощущенье багрового шара, готового разорваться на части.
Аполлон Аполлонович ведь страдал расширением сердца.
Аполлон Аполлонович, машинально надевши цилиндр и рукою прижавшись к скакавшему сердцу, отдался любимому созерцанию кубов, чтоб дать себе в происшедшем спокойный отчет.
Кони остановились. Городовой отдал под козырек. За подъездным стеклом, под бородатой кариатидою, подпирающей камни балкончика, Аполлон Аполлонович увидал то же все: там блистала медная, тяжкоглавая булава; на плечо там упала темная треуголка: восьмидесятилетний швейцар засыпал над Биржевкою*27. Так же он засыпал позавчера и вчера.
Так он спал пятилетие... Так проспит он...
С той самой поры, как Аполлон Аполлонович подкатил к Учреждению главой Учреждения, прошло ужо пять с лишком лет. И тут были события: проволновался Китай, и пал Порт-Артур.*28
Дверь распахнулась: медная булава простучала. Аполлон Аполлонович из каретного дверца пронес взор в подъезд.
– «Ваше высокопревосходительство... Сядьте-с... Ишь ты, задыхаетесь...»
– «Все-то бегаете, будто маленький мальчик...»
– «А может... водицы?»
Но лицо именитого мужа изошло все морщинками:
– «А скажите, пожалуйста: кто муж графини?»
– «Какой, я позволю спросить?»
– «Нет просто графини?»
– «?»
– «Графин».
– «Хе-хе-хе-с...»
ДВУХ БЕДНО ОДЕТЫХ КУРСИСТОЧЕК...
Среди медленно протекающих толп протекал незнакомец; верней – утекал в совершенном смятенье от того перекрестка, где был он притиснут к карете, откуда уставились: ухо, цилиндр.
Это ухо он видел!
Он – кинулся в бегство.
Пересекая столбы разговоров, ловил их отрывки, и составлялися предложения.
– «Знаете?» – пронеслось где-то справа; погасло.
И – вынырнуло:
– «Собираются...»
– «Бросить...»
Шушукало сзади:
– «В кого?»
И вот темная пара сказала.
– «Абл...»
Прошла:
– «В Аблеухова?!»
Пара докончила где-то вдали...
– «Абл... ейка меня кк... исла... тою... попробуй...» И пара икала.
Но незнакомец стоял, потрясенный всем слышанным:
– «Собираются?..»
– «Бросить?..»
Кругом зашепталось:
– «Пора... право...»
Незнакомец услышал не «право», а «прово», докончил же сам:
– «Прово-кация?!»
Провокация загуляла по Невскому. Провокация изменила смысл слышанных слов.
Просто он от себя присоединил предлог в е, ер: присоединением буквы в е и твердого знака изменился невинный словесный обрывок в обрывок ужасного содержания; и – главное: присоединил предлог – незнакомец.
Провокация, стало быть, в нем сидела самом.
О, русские люди!
Становитесь вы тенями клуболетящих туманов: туманы летят искони из свинцовых пространств закипевшего Балта*29; в туманы уставились пушки.
В двенадцать часов глухой пушечный выстрел торжественно огласил Петербург, великолепную столицу Империи: и туманы разорвалися, и тени рассеялись.
Только тень – молодой человек – не сотрясся и но распался от выстрела, беспрепятственно совершая пробег до Невы.
Вдруг – то увидел в упор на себя устремленные глазки двух бедно одетых курсисточек...
ДА ВЫ ПОМОЛЧИТЕ!..
«Вы – бы...»
Но слышалось:
«Бы – бы...»
И компания тощих пиджачников начинала визжать: – «А – ахха-ха, аха-ха!..»
Петербургская улица осенью – проницает; и леденит костный мозг, и щекочет; как скоро с ней попадаешь в помещение, улица в жилах течет лихорадкой.
Все то испытал незнакомец, войдя в запотевшую и парную переднюю, туго набитую: черными, синими, серыми, желтыми
Ресторанное помещение состояло из грязненькой комнатки; пол натирался мастикою; стены были расписаны рукой маляра, изображая обломки флотилии, с высоты которых в пространство указывал Петр.
– «Вам с пикончиком*30?»
– «Нет, без пикону!»
Сам думал: а почему был испуганный взгляд – за каретным стеклом: выпучились, окаменели, закрылись глаза; голова покачалась и скрылась; рука потряслась там безвластно; была не рука, а...
На прилавке же сохла закуска; скисали какие-то вялые листки с грудою перепрелых котлеток.
Вдали там посиживал праздно потеющий муж с кучерской бородой, в синей куртке, в смазных сапогах: опрокидывал рюмочки; подзывал полового:
– «Чаво бы нибудь...»
– «Дыньки-с?»
– «Мыло с сахаром твоя дынька...»
– «Бананчика-с?»
– «Неприличнава сорта фрухт...»
Трижды мой незнакомец уже проглотил терпкий яд. И сознание, отделяясь от тела, как ручка машинного рычага, начинало вертеться вокруг организма.
И сознание незнакомца на миг прояснилось: да; где узелочек? Вот он, – рядом, тут...
Эта встреча повышибла память.
– «Арбузика-с?»
– «К шуту арбузик: все только хруст на зубах; а во рту – хоть бы что...»
– «Ну так водочки...»
– «Не жалаете ль рюмочку?»
Праздно потеющий бородач подмигнул.
– «Отчего же-с?»
– «Да пил...»
– «Выпили бы в маем кумпанействе...»
Незнакомец мой что-то сообразил: подозрительно поглядел, ухватился за мокренький узелочек, за листик (газетного чтения); им он прикрыл узелочек:
– «Вы тульские будете?»
– «И вовсе не тульский...»
Он думал; и – нет; думы думались сами; и открывали картину: брезенты, канаты, селедки; набиты чем-то кули: меж кулями одетый в чернейшую кожу рабочий на спину все взваливал куль, выделяясь отчетливо в тумане летящих поверхностей; и куль глухо ухал в перегруженную балками барку; рабочий же (знакомый) стоял над кулями, вытаскивал трубочку.
– «По камерческой части?»
(Ах, господи!)
– «Нет!»
– «Вот он: а мы – в кучерах...»
– «Шурин та мой у Кистинтина Кистинтиновича*31 кучером...»
– «Ну и что ж?»
– «Да что ж: ничаво!..»
Вдруг – ...
Но о вдруг мы – впоследствии.
ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ ТАМ СТОЯЛ
Аполлон Аполлонович прицеливался к текущему деловому дню; и восставали: доклады вчерашнего дня; у себя на столе он представил бумаги, порядок их и им сделанные пометки карандашами: синее «
От департаментской лестницы до дверей кабинета Аполлон Аполлонович волею перемещал центр сознанья; мозговая игра отступала на край поля зрения, как белесоватые разводы обой: кучечка из параллельно положенных дел перемещалась в центр поля, как портрет.
Портрет? То есть: –
И нет его – и Русь оставил он...
Кто? Сенатор? Он? Аполлон Аполлонович Аблеухов? Да нет: Вячеслав Константинович*32... А он, Аполлон Аполлонович?
И мнится – очередь за мной...
Зовет меня мой Дельвиг милый...
Очередь – очередь: по очереди –
И над землей сошлися новы тучи*33,
И ураган их...
Кучка бумаг выскочила на поверхность сознания: Аполлон Аполлонович прицелился к текущему деловому дню.
– «Потрудитесь же, Герман Германович, приготовить – то самое, как его...»
– «Дело дьякона Зракова!»
Тут он вспомнил (он вовсе забыл): да, – глаза: удивились, сбесились... И зачем был зигзаг?.. Пренеприятный. И разночинца как будто бы видел – когда-то: а может быть, – нигде, никогда...
Аполлон Аполлонович открыл дверь кабинета...
Письменный стол там стоял, а камин растрещался поленьями; Аполлон Аполлонович грел у камина иззябшие руки, а мозговая игра продолжала там строить туманные плоскости:
– «Николай Аполлонович...»
Тут Аполлон Аполлонович...
– «?..»
Аполлон Аполлонович остановился у двери.
Невинная мозговая игра самопроизвольно вновь вдвинулась в мозг, то есть в кучу бумаг и прошений; мозговую игру Аполлон Аполлонович счел бы разве обоями комнаты; плоскость, однако, порой раздвигался, пропускала в центр умственной жизни сюрприз.
Аполлон Аполлонович вспомнил:
Как-то спускался он с лестницы; Николай Аполлонович, перегнувшийся через перила, с кем-то...; о знакомствах Николая Аполлоновича государственный человек не считал себя вправе осведомляться; чувство такта естественно помешало спросить:
– «А скажи-ка мне, Коленька, кто это такое тебя посещает, голубчик мой?»
Николай Аполлонович опустил бы глаза:
– «Да так себе, папаша: меня посещают...»
Оттого-то вот Аполлон Аполлонович не заинтересовался нисколько тогда этой личностью разночинца, глядевшего из передней в пальто; у незнакомца были те самые усики и поразительные глаза (вы такие б встретили ночью в московской часовне Великомученика Пантелеймона, что у Никольских ворот; вы такие бы встретили на портрете, приложенном к биографии великого человека; и далее: в невропатологической клинике).
Глаза и тогда: расширились, заиграли, блеснули; значит: то уже было когда-то, и, может быть, – повторится.
Аполлон Аполлонович посмотрел вдруг за дверь: письменные столы, письменные столы! Кучи дел! И – склоненные головы! Какое кипучее и могучее бумажное производство!
Мозговая игра носителя бриллиантовых знаков отличалась странными, весьма странными, чрезвычайно странными свойствами: черепная коробка его становилася чревом мысленных образов, воплощавшихся тотчас же в этот призрачный мир.
О, лучше бы Аполлон Аполлонович не откидывал от себя ни одной праздной мысли, продолжая и все мысли носить в голове; ибо каждая мысль развивалась упорно в пространственно-временный образ; и продолжала свои бесконтрольные действия – вне сенаторской головы.
Аполлон Аполлонович был как Зевс*34: из его головы вытекали богини и гении; один такой гений (незнакомец с черными усиками), возникая, как образ, уже
Убегали и упрочнялись.
И одна убежавшая мысль была мыслью о том, что незнакомец существует действительно; мысль забежала обратно в сенаторский мозг.
Круг замкнулся.
Аполлон Аполлонович был как Зевс: так, едва из его головы родилась Незнакомец-Паллада, как полезла оттуда другая, такая же точно Паллада.
Палладою был сенаторский дом.
Лакей поднимался по лестнице; о, прекрасная лестница! И – ступени: мягкие, как мозговые извилины, по которым не раз поднимались министры; – лакей уже в зале...
И опять-таки – зала: прекрасная. Окна и стены, немного холодные...
Мы окинули обиталище, руководствуясь признаком, коим сенатор привык наделять все предметы.
Так; –
– в кой веки попав на цветущее лоно природы, Аполлон Аполлонович видел: цветущее лоно природы; для нас это лоно тотчас распадалось на признаки: на фиалки, на лютики, на гвоздики; сенатор отдельности возводил вновь к единству; сказали б, конечно:
– «Вот лютик!»
– «Вот незабудочка...»
А Аполлон Аполлонович говорил и просто и кратко:
– «Цветок...»
Между нами будь сказано: Аполлон Аполлонович все цветы одинаково почему-то считал колокольчиками...
С лаконической краткостью охарактеризовал бы он и свой собственный дом, для него состоявший из стен (образующих квадраты и кубы), из прорезанных окон, паркетов, столов; далее – начинались детали...
Но не мешает нам вспомнить: мелькнувшее мимо (картины, рояль, зеркала, перламутр, инкрустация столиков) – все, промелькнувшее мимо, – было одним раздражением мозговой оболочки, если не было недомоганием.., мозжечка.
Строилась иллюзия комнаты: и потом разлеталась бесследно; когда же захлопнулись двери из гулкого коридорчика, это только стучало в висках.
За захлопнутой дверью не оказалось гостиной, а мозговые пространства: извилины, серое и белое вещество, шишковидная железа; а тяжелые стены из искристых брызг (обусловленных приливом) – были свинцовым и болевым ощущением: затылочной, лобной, височной и темянных костей.
Аполлон Аполлонович сидел за столом, над делами и с ощущением, будто его голова в шесть раз больше, чем следует, и в двенадцать раз тяжелее, чем следует.
НАША РОЛЬ
Петербургские улицы обладают одним несомненнейшим свойством: превращают в тени прохожих.
Это видели мы на примере с таинственным незнакомцем.
Он, возникши, как мысль, почему-то связался с сенаторским домом; там всплыл на проспекте, непосредственно следуя за сенатором в нашем рассказе.
От перекрестка до ресторанчика на Миллионной услужливо описали мы путь незнакомца до пресловутого слова «
Обследуем его душу; но прежде: обследуем ресторанчик; и даже – окрестности ресторанчика; на то есть основание.
В нами взятом естественном сыске предвосхитили мы лишь желание сенатора Аблеухова, чтобы агент охранного отделения неуклонно следовал по стопам незнакомца; пока легкомысленный агент бездействует в отделении, этим агентом будем мы.
Но не попали ль мы сами впросак? Ну, какой же мы агент? Он – есть. И не дремлет, ей-богу, не дремлет.
Когда незнакомец исчез в дверях ресторанчика, мы обернулись и увидели два силуэта, пересекавших туман; один был и толст и высок, выделяясь сложением; но лица не могли разобрать (силуэты ведь лиц не имеют); и все ж разглядели: распущенный зонт и калоши да полукотиковую шапку с наушниками.
Паршивенькая фигурка совсем низкорослого господинчика составляла главнейшее содержание силуэта второго; лицо было видно: лица не успели увидеть, ибо мы удивились огромности бородавки: так лицевую субстанцию заслонила нахальная акциденция*35 (ей подобает так действовать в мире теней).
Сделав вид, что глядим в облака, пропустили мы темную пару; перед ресторанною дверью та пара остановилась.
– «Гм?»
– «Здесь...»
– «Так я и думал».
– «Какие вы приняли меры?..»
– «Я там, в ресторанчике, посадил человека».
– «Гм... Придется мне... Гм!.. Пожелать вам успеха...»
Предприятие поставлено, как часовой механизм.
– «Гм?»
– «Что такое?»
– «Проклятый насморк».
– «Послушайте: брали бы жалованье...»
– «Нет, вы меня не поймете!»
– «Пойму: положительно не хватает платков».
– «Что?»
– «Насморк же!..»
– «Я служу не за жалованье: я артист!»
– «Своего рода...»
– «Что?»
– «Лечусь сальной свечкой».
Фигурка повынимала иссморканный носовой свой платок:
– «Так передайте же: Николай Аполлонович обещание дал...»
– «Сальная свечка прекрасное средство!»
– «Расскажите им все!»
– «Вечером намажешь ноздрю, утром – рукой снимет».
Под бородавкою загулял вновь платочек. Две тени уже утекали в промозглую муть. Скоро тень толстяка показалась опять из тумана, посмотрела рассеянно на петропавловский шпиц.
И вошла в ресторанчик.
И ПРИТОМ ЛИЦО ЛОСНИЛОСЬ...
«
«Оно» крадется за спиной; иногда же предшествует появлению в комнате; обеспокоен ужасно: в спине развивается ощущение, будто в спину, как в дверь, повалила ватага; обертываешься, просишь хозяйку:
– «Сударыня, не позволите ли закрыть дверь; у меня особое нервное ощущение: я спиною терпеть не могу сидеть к двери».
Смеются. Ты тоже смеешься: будто не было – «
«Оно» кормится мозговою игрою; все гнусности мыслей- оно пожирает охотно; и распухает оно – таешь ты, как свеча; «вдруг», откормленный, но невидимый пес, начинает предшествовать, вызывая у наблюдателя впечатление, будто ты занавешен от взора облаком: это – есть твое «вдруг».
Мы оставили в ресторанчике незнакомца.
Когда незнакомец мой отвернулся от двери, то в дверь вошел тотчас же неприятный толстяк; и, идя к незнакомцу, поскрипывал он половицею; желтоватое, бритое, чуть-чуть наклоненное набок лицо плавало в собственном втором подбородке; притом лицо лоснилось.
Тут незнакомец наш обернулся:
– «Александр Иваныч...»
– «Липпанченко!»
Шейный воротничок у особы был повязан галстуком – атласно красным, кричащим, заколотым крупным стразом*36; полосатая темно-желтая пара облекала особу; на желтых ботинках поблескивал лак.
Заняв место за столиком незнакомца, особа воскликнула:
– «Кофейник... И – послушайте – коньяку: там бутылка моя, у меня...»
И кругом раздавалось:
– «Ты-то пил?»
– «Пил...»
– «Ел?..»
– «Ел...»
– «И какая же ты, с позволения сказать, свинья...»
– «Осторожнее», – вскричал незнакомец: толстяк, названный незнакомцем Липпанченко, захотел положить темно-желтый свой локоть на лист газетного чтения, накрывающий узелочек.
– «Что?» – Тут Липпанченко, сиявши лист, увидал узелок: губы дрогнули.
– «Это... это... и есть?..»
Губы еще продолжали дрожать, напоминая кусочки на ломтики нарезанной семги – не желто-красной, а маслянистой и желтой.
– «Как вы, Александр Иванович, скажу я вам, неосторожны». – Липпанченко протянул к узелку дубоватые пальцы, блистающие поддельными камнями перстней, все опухшие, с обгрызанными ногтями (на ногтях же темнели следы коричневой красочки, соответствовавшей и такому же цвету волос; внимательный наблюдатель мог вывести заключение: особа-то красилась).
– «Ведь еще лишь движенье (положи я только локоть), ведь могла бы быть... катастрофа...»
И с особою бережливостью переложила особа теперь узелочек на стул.
– «Ну да, было бы с нами с обоими...» – неприятно сострил незнакомец.
А кругом раздавалось:
– «Свиньей не ругайтесь...»
– «Да я не ругаюсь».
– «Ругаетесь: попрекаете, что платили...»
– «Уж ешьте вы, ешьте; так правильней...»
– «Вот-с, Александр Иванович, вот-с что, родной мой, этот вы узелок» – и Липпанченко покосился – «снесите немедленно к Николаю Аполлоновичу».
– «Но позвольте же: на хранении узелок может ведь лежать у меня...»
– «Неудобно: вас могут схватить; там будет в сохранности».
И толстяк, наклонившися, зашептал что-то на ухо:
– «Шу-шу-шу...»
– «Аблеухова?»
– «Шу...»
– «Аблеухову?..»
– «Шу...»
– «С Аблеуховым?..»
– «Да, не с сенатором, – с сыном: ему передайте уже заодно с узелком – письмецо: тут вот...»
Прямо к лицу незнакомца приваливалась Липпанченки узколобая голова; затаились пытливые глазки; чуть вздрагивала губа; и – посасывала; незнакомец прислушивался к шептанию толстого господина, стараясь расслышать внимательно содержание шепота, заглушаемого ресторанными голосами; и – шелестело из отвратительных губок (так шелест от ног муравьиных над раскопанным муравейником); и казалось, что шепот имеет ужасное содержание, будто шепчутся здесь о мирах и планетных системах; но стоило вслушаться: страшное содержание шепота распадалось на будни.
– «Письмо передайте...»
Кругом раздавалось:
– «Что истина?»*37
– «Истина – естина...»
– «Знаю...»
– «А коли знаешь, хватай-ка тарелку да ешь...»
Пара Липпанченки напомнила незнакомцу цвет желтых обой обиталища на Васильевском Острове – цвет, с которым связалась бессонница; та бессонница в памяти вызвала роковое лицо с очень узкими, монгольскими глазами; лицо на него многократно глядело с обой. Исследуя днем это место, усматривал лишь сырое пятно, по которому проползала мокрица. Чтоб отвлечь от воспоминаний об мучившей галлюцинации, неожиданно для себя стал болтливым:
– «Прислушайтесь к шуму...»
– «Изрядио шумят».
– «Звуки шума на «и», но слышится – «Ы»...»
Липпанченко, осовелый, ушел в свою думу.
– «В звуке «ы» слышится что-то тупое и склизкое... Или я ошибаюсь?..»
– «Нет, нисколько», – и Липпанчеико оторвался от мысли...
– Все слова на еры тривиальны до безобразия: не то «и»; «и-и-и» – небосвод, мысль, кристалл; звук «и-и-и» вызывает во мне представление о загнутом клюве орлином; а слова на «
Незнакомец прервал свою речь: Липпанченко сидел перед ним совершенно бесформенной глыбою; и дым от его папиросы осклизло обмыливал атмосферу: сидел Липпанченко в облаке; незнакомец тут на него посмотрел и подумал: «тьфу, гадость – татарщина...» Перед ним сидело просто какое-то «Ы»...
С соседнего столика кто-то, икая, воскликнул:
– «Ерыкало ты, ерыкало...»
– «Извините, Липпанченко: вы не монгол?»
– «Почему такой странный вопрос?»
– «Во всех русских монгольская кровь».
КАКОЙ КОСТЮМЕР?
Помещение Николая Аполлоновича состояло из спальни, рабочего кабинета, приемной.
Всю спальню огромная занимала кровать; атласное одеяло ее покрывало – с накидками.
Кабинет был уставлен дубовыми полками, туго набитыми книгами, пред которыми на колечках скользил шелк, обнаруживая ряды кожаных корешков.
Кабинетная мебель была темно-зеленой обивки; прекрасен был бюст... разумеется, Канта*38.
Два года Николай Аполлонович не поднимался раньше полудня. Два с половиною ж года перед тем пробуждался он в девять часов, появляясь в мундире, застегнутом наглухо.
Не расхаживал по дому в бухарском халате; ермолка не украшала восточную гостиную комнату; два с половиною года назад Анна Петровна, мать Николая Аполлоновича и супруга Аполлона Аполлоновича, покинула семейный очаг, вдохновленная итальянским артистом; после же бегства с артистом уже на паркетах домашнего очага Николай Аполлонович появился в бухарском халате; ежедневные встречи за утренним кофеем сами собою пресеклись.
Значительно ранее сына откушивал кофе сенатор.
На Николае Аполлоновиче стал появляться халат; завелися татарские туфельки; появилась ермолка.
Так блестящий студент превратился в восточного человека.
Николай Аполлонович только что получил письмо с незнакомым почерком: жалкие вирши с разительной подписью: «Пламенеющая душа».
Николай Аполлонович заметался по комнате, разыскивая очки, перебирая книги, перья и ручки:
– «А-а!..»
– «Черт возьми!..»
Николай Аполлонович, так же как и Аполлон Аполлонович, сам с собою разговаривал.
Движения его были стремительны, как движенья папаши; как Аполлон Аполлонович, отличался невзрачным росточком, беспокойными взглядами улыбавшегося лица; когда погружался в серьезное созерцание, взгляд окаменевал: сухо, четко и холодно выступали линии совершенно белого лика, подобного иконописному; благородство в лице выявлял лоб – точеный, с надутыми жилками: пульсация жилок на лбу отмечала склероз.
Синеватые жилки совпали с кругами громаднейших глаз какого-то темно-василькового цвета (в минуту волнения черными становились глаза: от расширенности зрачков) .
Николай Аполлонович был в татарской ермолке; сними ее он, – и предстала бы шапка сквозных бело-льняных волос, омягчая холодную эту суровую внешность: с напечатленным упрямством; трудно было встретить волосы такого оттенка у взрослого человека; часто встречается этот оттенок у малых младенцев – особенно в Белоруссии.
Здесь, в своей комнате, Николай Аполлонович воистину вырастал в предоставленный себе самому центр – в серию из центра истекающих логических предпосылок, предопределяющих мысль, душу и вот этот вот стол: он являлся здесь единственным центром вселенной как мыслимой, так и немыслимой.
Этот центр – умозаключал.
Но едва удалось Николаю Аполлоновичу отставить житейские мелочи и пучину невнятностей, называемых миром и жизнью, как невнятница опять ворвалась.
Николай Аполлонович оторвался от книги:
– «Ну?..»
Раздался глухой и почтительный голос.
– «Вас спрашивают-с...»
Запершися на ключ и продумывая положения своей шаг за шагом возводимой к единству системы, он чувствовал тело свое пролитым во «
И, сместив себя так, Николай Аполлонович становился воистину творческим существом.
Он любил запираться: и шорох, и шаг постороннего человека сознание разбивали.
Так и теперь.
– «Что такое?»
Но из дали ответствовал голос:
– «Пришел человек».
Тут лицо Николая Аполлоновича приняло довольное выражение:
– «Л, так это от костюмера: костюмер принес мне костюм...»
И, подобравши полу халата, он зашагал по направлению к выходу; у лестничной балюстрады он перегнулся и крикнул:
– «Это – вы?..»
– «Костюмер?»
Какой такой костюмер?
В комнате Николая Аполлоповича появилась кардонка; Николай Аполлонович запер дверь на ключ; суетливо разрезал бечевку; приподнял он крышку; и вытащил из кардонки: масочку с черною кружевной бородой; а за масочкой пышное ярко-красное домино, зашуршавшее складками.
Скоро стоял перед зеркалом – весь атласный и красный, приподнимая над лицом миниатюрную масочку; черное кружево бороды, отвернувшися, упадало на плечи ему, образуя справа и слева по фантастическому крылу.
После этого маскарада Николай Аполлонович с чрезвычайно довольным лицом убрал обратно в кардонку сперва красное домино, а за ним и черную масочку.
МОКРАЯ ОСЕНЬ
Зеленоватым роем пронеслись облачные клоки. Зеленоватый рой поднимался безостановочно над безысходною далью невских проспектов; в зеленоватый рой убегал шпиц... с Петербургской стороны.
Описав в небе траурную дугу, темная полоса копоти встала от труб; и хвостом упадала на воды.
Бурлила Нева, и кричала свистком загудевшего параходика, разбивала стальные щиты о быки мостов; и лизала граниты.
И на этом мрачнеющем фоне хвостатой и виснущей копоти над сырыми камнями набережных перил, устремляя глаза в зараженную бациллами мутную невскую воду, так отчетливо вылепился силуэт Николая Аполлоновича.
У большого черного моста остановился он.
Неприятная улыбка вспыхнула на лице его; воспоминанья о неудачной любви охватили его. Николай Аполлонович вспомнил одну туманную ночь; тою ночью он перегнулся через перила; обернулся, приподнял ногу; и гладкой калошей занес ее над перилами; казалось бы, дальше должны были и воспоследовать следствия; но... Николай Аполлонович опустил свою ногу.
Вспоминая теперь этот свой неудачный поступок, Николай Аполлонович неприятнейшим образом улыбался, представляя довольно смешную фигуру: запахнувшись в шинель, он казался сутулым и каким-то безруким с заплясавшим по ветру длинным, шинельным крылом.
– «Красавец», – слышалось вокруг Николая Аполлоновича...
– «Античная маска...»
– «Ах, бледность лица...»
– «Этот мраморный профиль...»
Но если бы Николай Аполлонович рассмеялся бы, то сказали бы дамы:
– «Уродище...»
Где с подъезда насмешливо полагают лапу на серую гранитную лапу два льва, – там остановился, увидавши спину прохожего офицера; путаясь в полах шинели, он стал нагонять офицера:
– «Сергей Сергеевич?»
На мгновенье какая-то мысль осенила лицо офицера; по выражению дрогнувших губ можно было подумать, что офицер колебался:
– «А... Здравствуйте...»
– «Вы куда?» – спросил Николай Аполлонович, чтоб пройтись с офицером по Мойке:
– «Домой».
– «Стало быть, по пути».
Между окнами желтого здания над обоими повисли ряды львиных морд над гербом, оплетенным гирляндой из камня.
Точно стараясь не касаться какого-то прошлого, оба, перебивая друг друга, заговорили о том, что волнения последних недель отразились на философской работе Николая Аполлоновича.
Между окнами желтого казенного здания над обоими повисали ряды львиных морд над гербом, оплетенным гирляндою.
Вот Мойка: и то же светлое, трехэтажное пятиколонное здание; и полоски орнаментской лепки над этажем: круг за кругом; в круге – римская каска на перекрещенных двух мечах; миновали уж здание; и вон – дом; и вон окна...
– «Прощайте... вам дальше?..»
Сердце Николая Аполлоновича застучало; все что-то спросить собирался; и – нет: не спросил; он стоял одиноко перед захлопнутой дверью; воспоминания о неудачной любви, верней – чувственного влечения – охватили его.
То же светлое, пятиколонное здание с полосою орнаментной лепки: в круге – римская каска на перекрещенных мечах.
Огненным мороком вечером залит проспект. Ровно высятся яблоки электрических светов посередине. По бокам же играет переменный блеск вывесок; здесь вспыхнут вдруг рубины огней; вспыхнут там – изумруды. Мгновение: там – рубины; изумруды же – здесь.
Николай Аполлонович Невского не видал, в глазах его был тот же домик; окна и тени за окнами; может быть, веселые голоса: желтого кирасира, барона Оммау-Оммергау*39; и ее – ее голос...
АПОЛЛОН АПОЛЛОНОВИЧ ВСПОМНИЛ:
Да, Аполлон Аполлонович вспомнил: недавно подслушал беззлобную шутку чиновников про себя:
– «Он берет одну ноту: презрения...»
Вмешались заступники:
– «Господа: это – от геморроя...»
Тут дверь распахнулась: вошел Аполлон Аполлонович.
Шутка оборвалась (так юркий мышонок влетает стремительно в щелку). Аполлон Аполлонович не обижался на шутки.
Аполлон Аполлонович подошел тут к окну; две головки там в окнах увидели против себя за стеклом лицевое пятно неизвестного старичка.
Здесь, в кабинете высокого Учреждения Аполлон Аполлонович вырастал в некий центр государственных учреждений и зеленых столов. Здесь являлся он силовой излучающей точкою, пересечением, импульсом; был он силой в ньютоновском смысле, а сила в ньютоновском смысле – оккультная сила.*40
Сознание отделялось от личности*41, проясняясь невероятно и концентрируясь в единственной точке (меж глазами и лбом): огонек, вспыхнувши меж глазами и лбом, разбрасывал снопы молний; мысли-молнии разлетались, как змеи, от лысой его головы; фантаст, без сомнения, перед собою увидел бы голову Горгоны медузы.*42
Сознание отделялось от личности: личность же представлялась сенатору, как черепная коробка и как пустой опорожненный футляр.
Он из этого кресла, сознанием, пересекал свою жизнь; циркуляры, из этого места, разрезывали чресполосицу обывательской жизни, которую сравнивал он с половой, растительной или иной потребностью.
Лишь отсюда он возвышался, безумно парил над Россией, вызывал у недругов роковое сравнение (с нетопырем) .
Аполлон Аполлонович был сегодня особенно четок; на доклад не кивнула ни разу его голова; бог весть почему, Аполлон Аполлонович пришел к заключению, что собственный его сын, Николай Аполлонович, – негодяй.
Можно было видеть кариатиду подъезда: каменного бородача.
Каменный бородач приподымался над уличным шумом, над временем года: тысяча восемьсот двенадцатый год освободил его из лесов. Тысяча восемьсот двадцать пятый год бушевал под ним толпами; проходила толпа и теперь – в девятьсот пятом году. Пять уже лет Аполлон Аполлонович ежедневно видит отсюда в камне изваянную улыбку; времени зуб изгрызает ее. За пять лет пролетели события: Анна Петровна – в Испании; Вячеслава Константиновича – нет; желтая пята дерзновенно взошла на гряды высот порт-артурских; проволновался Китай, и пал Порт-Артур.
Дверь отворилась; секретарь, молодой человек, с бьющимся орденком пролетел к высокой особе, почтительно щелкнувши перекрахмаленным краем манжетки. И на робкий вопрос его загудел Аполлон Аполлонович:
– «Нет, нет!.. Сделайте, как я говорил... И, знаешь ли», – сказал Аполлон Аполлонович, остановился, поправился.
– «Ти ли...»
Он хотел сказать «знаете ли», по вышло: «знаешь ли... ти ли...»
О его рассеянности ходили легенды.
ХОЛОДНЫЕ ПАЛЬЦЫ
Аполлон Аполлонович Аблеухов в сером пальто и в высоком черном цилиндре с каменным лицом, напоминающим пресс-папье, быстро выбежал из кареты, вбежал на ступени подъезда, на ходу снимая перчатку.
Вошел он в переднюю. Цилиндр передался лакею.
– «Будьте любезны: часто ли здесь – молодой человек – ?»
– «Молодые люди бывают, вашество?»
– «Ну, а... с усиками?»
– «С усиками-с?..»
– «Ну да, и... в пальто...»
Что-то вдруг осенило швейцара:
– «Был однажды такой-с... заходил к молодому барину».
– «С усиками?»
– «Точно так-с!»
Аполлон Аполлонович – постоял: и вдруг: Аполлон Аполлонович – прошел.
Лестницы покрывал бархатный серый ковер; этот серый ковер покрывал тоже стены. На стенах блистали орнаменты из старинных оружий: под ржаво-зеленым щитом блистала литовская шапка; искрилася рукоять рыцарского меча, здесь – ржавели мечи; там – склоненные алебарды; клонились – пистоль с шестопером.
Верх лестницы выводил к балюстраде; здесь с матовой подставки застывшая Ниобея поднимала горе алебастровые глаза.*43
Аполлон Аполлонович четко распахнул дверь, опирался костлявой рукой о граненую ручку.
ТАК БЫВАЕТ ВСЕГДА
Какое-то фосфорическое пятно и туманно, и мертвенно проносилось по небу; фосфорическим блеском протуманилась высь; и от этого проблистали железные крыши и трубы. Протекали тут воды Мойки; по одной ее стороне то же высилось трехэтажное здание; наверху были выступы.
Николай Аполлонович, запахнувшись в меха, пробирался по Мойке: голова упала в шинель; на душе – подвималися трепеты без названия; что-то жуткое, сладкое...
Думал он: неужели и это – любовь? Вспомнил он.
Вздрогнул он.
Пролетел сноп огня: придворная, черная пролетела карета: пронесла мимо впадин оконных кровавые, будто кровью налитые, фонари; на струе черной мойской они проиграли и проблистали; призрачный абрис треуголки лакея и абрис шинельных крыльев пролетели с огнем из тумана в туман.
Николай Аполлонович постоял перед домом; постоял, постоял – и неожиданно скрылся в подъезде.
Подъездная дверь перед ним распахнулась; и звуком ударилась в спину; тьма объяла его; точно все отвалилось (так, вероятно, бывает в первый миг после смерти); о смерти теперь Николай Аполлонович не думал – он думал о собственных жестах; и действия его в темноте приняли фантастический отпечаток; на холодной ступени уселся у двери, опустив лицо в мех, слушая биение сердца.
Николай Аполлонович сидел в темноте.
Каменный перегиб Зимней Канавки показал плаксивый простор; Нева бросалась натиском мокрого ветра; мерцали беззвучно летящие плоскости, стены четырехэтажного дворцового бока блистали луной.
Никого, ничего.
Лишь каналец выструивал воду; выбегала на мостик та женская тень, чтоб – низвергнуться?.. Лизы*44? Нет, так себе, – петербуржки; и, пересекши Канавку, она убегала от желтого дома Гагаринской набережной, под которым она каждый вечер стояла и долго глядела в окно.
Впереди уже ширилась площадь; статуи зеленоватые, бронзовые, пооткрывалися отовсюду; и Геркулес с Посейдоном*45 все так же взирали; за Невою вставала громада – абрисами островов и домов; и бросала янтарные очи в туман, и казалось, что – плачет.
Выше – горестно простирали по небу клочкастые руки какие-то смутные очертания; рой за роем они восходили над невской волной, угоняясь к зениту; а когда они касались зенита, то, стремительно нападая, с неба кидалось на них фосфорическое пятно.
Женская тень, уткнув лицо в муфточку, пробежала вдоль Мойки все к тому же подъезду, откуда она выбегала по вечерам и где теперь на холодной ступеньке, под дверью, сидел Николай Аполлонович; подъездная дверь перед нею затворилась; подъездная дверь перед ней захлопнулась; тьма объяла ее, точно все за ней отвалилось; черная дамочка помышляла в подъезде о простом и земном; уже руку она протянула к звонку, и – тогда-то увидела: очертание, кажется, маска, возникло пред ней со ступени.
Когда же открылася дверь и подъездную темноту озарил на мгновенье сноп света, то восклицание перепуганной горничной подтвердило ей все, потому что в открытой двери показался передник, перекрахмаленный чепчик; потом отшатнулись от двери – передник и чепчик. Во вспышке открылась картина неописуемой странности; черное очертание дамочки бросилось в открытую дверь.
У нее за спиною, из мрака, восстал шелестящий паяц с бородатою, трясущейся масочкой.
Было видно из мрака: беззвучно и медленно с плеч повалили меха николаевки*46: и две красных руки протянулися к двери; закрылася дверь, перерезав сноп света, кидая обратно подъездную лестницу в совершенную темноту.
Через секунду на улицу выскочил Николай Аполлонович; из-под полы шинели у него болтался кусок красного шелка; нос уткнув в николаевку, он мчался по направлению к мосту.
На чугунном мосту обернулся он; и ничего не увидел: над сырыми перилами, над кишащей бациллами зеленоватой водой пролетели лишь в сквозняки приневского ветра – котелок, трость, пальто, уши, нос и усы.
ТЫ ЕГО НЕ ЗАБУДЕШЬ ВОВЕК!
Мы увидели в этой главе сенатора Аблеухова; увидели мы и праздные мысли сенатора в виде дома сенатора, в виде сына сенатора, тоже носящего в голове свои праздные мысли; видели мы, наконец, еще праздную тень – незнакомца.
Эта тень случайно возникла в сознании сенатора Аблеухова, получила там свое эфемерное бытие; но сознание Аполлона Аполлоновича есть теневое сознание, потому что и он – обладатель эфемерного бытия и порождение фантазии автора: ненужная, праздная, мозговая игра.
Автор, развесив картины иллюзий, должен бы был поскорей их убрать, обрывая нить повествования, хотя бы этой вот фразою; но... автор так не поступит: на это у него есть достаточно прав.
Мозговая игра – только маска; под этою маскою совершается вторжение в мозг разнообразия сил: и пусть Аполлон Аполлонович соткан из нашего мозга, он сумеет все-таки напугать неким, потрясающим бытием, нападающим ночью. Атрибутами этого бытия наделен Аполлон Аполлонович; атрибутами этого бытия наделена вся его мозговая игра.
Раз мозг его разыгрался таинственным незнакомцем, незнакомец тот – есть, действительно есть: не исчезнет он с петербургских проспектов, пока существует сенатор с подобными мыслями, потому что и мысль в сознании обладает собственным бытием. .
И да будет наш незнакомец – незнакомец реальный! И да будут две тени моего незнакомца реальными тенями!
Будут, будут те темные тени следовать по пятам незнакомца, как и сам незнакомец непосредственно следует за сенатором; будет, будет престарелый сенатор гнаться и за тобою, читатель, в своей черной карете: и его отныне ты не забудешь вовек!
ГЛАВА ВТОРАЯ,
в которой повествуется о пеком свидании, чреватом последствиями.|
Я сам, хоть в книжках и словесно Собратья надо мной трунят, Я мещанин, как вам известно, И в этом смысле демократ.*47 |
ДНЕВНИК ПРОИСШЕСТВИЙ
Наши граждане не читают газетный «Дневник
Все же прочие истинно русские обыватели, как ни в чем не бывало, бросалися к «
Вот газетные вырезки того времени (автор будет молчать): наряду с извещеньем о кражах, насилии, похищении бриллиантов, пропаже какого-то литератора с бриллиантами на почтенную сумму из провинциального городка, мы имеем – сплошную фантастику, от которой закружится голова читателя Конан-Дойля*49.
«
«
«
«
Наконец: «
Кто N. N., кто М. М., наставница класса, R. R. и так далее?..
Что такое газетный сотрудник? Он деятель периодической прессы; как деятель прессы (шестой части света) получает за строку – пятачок, семь копеечек, гривенник, пятиалтынник, двугривенный.
Таковы-то почтенные свойства газетных сотрудников правых, средних, умеренных либеральных, революционных газет; и открывается ключ к истине тысяча девятьсот пятого года, – истине «
Кто дама?
Была одна дама.
Та дама однажды, смеясь, сообщила, что красное домино повстречалось с ней только что в неосвещенном подъезде; попало признание дамы в рубрики «
Что было?
СОФЬЯ ПЕТРОВНА ЛИХУТИНА
Софья Петровна Лихутина отличалась чрезмерной растительностью: и она была необычайно гибка: если б Софья Петровна Лихутина распустила бы черные волосы, волосы, покрывая весь стан, упали б до икр; говоря откровенно, не знала, что делать ей с этими волосами своими, столь черными, что, пожалуй... от волос, или от их черноты – только: над губками Софьи Петровны обозначался пушок, угрожавший ей к старости усиками; обладала она необычайным цветом лица; цвет был – просто жемчужный, отливающий розовой белизной нежных яблочных лепестков; если что-либо волновало стыдливую Софью Петровну, она становилась пунцовой.
Глазки Софьи Петровны Лихутиной не были глазками, а глазами: глазищами темного, синего – темно-синего цвета (назовем их очами). И очи то искрились, то мутнели, порою казались тупыми, какими-то выцветшими, углубленными в провалившихся орбитах, синевато-зловещих: косили; краснейшие губы ее были слишком большими губами, но... зубки (ах, зубки!): жемчужные зубки! притом – детский смех... Этот смех придавал оттопыренным губкам какую-то прелесть; опять-таки стан – гибкий очень: все движения стана и нервной спины то стремительны были, то вялы.
Она одевалась в черное платье с застежкою на спине, облекавшее ее роскошные формы; если я говорю про
Ах, Софья Петровна!
Она проживала в квартирке на Мойке; со стен упадали каскады ярчайших неугомонных цветов: очень огненных – там; и здесь – поднебесных. На стенах японские веера, кружева и подвесочки, банты, а на лампах атласные абажуры развевали бумажные крылья, как бабочки жарких стран; и казалось, что рой этих бабочек, послетевши со стен, тут расплещется поднебесными крыльями (знакомые офицеры ее называли всегда ангел Пери*51, рассеянно слив два понятия: «
Софья Петровна Лихутина развесила японские пейзажики, изображавшие вид горы Фузи-Ямы*52: все – до единого; в пейзажиках не было перспективы; и в комнатах, туго набитых диванами, креслами, софами, веерами, живыми японскими хризантемами, тоже не было перспективы: перспективой являлся атласный альков, из-за которого выпорхнет Софья Петровна, и с двери слетающий, шепчущий что-то тростник, из-за которого выпорхнет Софья Петровна, а то Фузи-Яма – фон чудных ее волос; надо сказать: когда Софья Петровна Лихутина в розовом
Комнатки были – малые: каждую занимал лишь один очень-очень огромный предмет: в крошечной спальной постель была огромным предметом; ванна – в крошечной ванной; в гостиной – голубоватый альков; стол с буфетом – в столовой; тем предметом в мужниной комнате был, разумеется, муж.
Но откуда же быть перспективе?
Все шесть крохотных комнатушек отоплялись паровым отоплением, отчего вас в квартирке задушивал сухой жар; стекла окон потели; потел посетитель; потели – прислуга, и муж; сама Софья Петровна Лихутина покрывалась испариной, будто теплой росой хризантема; откуда же быть перспективе?
И вот: ее не было.
ПОСЕТИТЕЛИ СОФЬИ ПЕТРОВНЫ
Посетитель оранжереечки,
Посетителя Софья Петровна не занимала ничем: если это был светский любезник, она хохотала по поводу всех шутливых и нешуточных, и серьезнейших слов: на все хохотала; и становилась пунцовой от хохота; и испарина выступала на крохотном посике; молодой человек становился пунцовым; испарина покрывала его: молодой человек удивлялся ее молодому, не светскому хохоту; удивлялся так, относил он Лихутину к демимонду*54; между тем: появлялась кружка с надписью «
Если бы посетитель Софьи Петровны оказывался музыкант, музыкальный критик или просто любитель, то Софья Петровна ему поясняла: ее кумиры –
Посетители Софьи Петровны естественно распадались на две категории: на категорию светских гостей и на
ОФИЦЕР: СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛИХУТИН
Средь учащейся молодежи частила к Лихутиным одна светлая личность: курсистка, Варвара Евграфовна.
Под влиянием светлой особы, представьте, ангел осветил своим присутствием – митинг. Под влиянием ее ангел выставил медную кружку с туманною надписью: «Благотворительный сбор». Разумеется, кружка была предназначена для гостей; личности, относящиеся к
С той поры, как Николенька перестал вдруг бывать, этот ангел тайком от
Свое новое увлечение Софья Петровна скрыла и от барона Оммау-Оммергау, и от Варвары Евграфовны; несмотря на крошечный лобик, скрытность ангела достигала невероятных размеров: Варвара Евграфовна ни разу не встретилась с графом Авеном; однажды в передней она увидала случайно одну лейб-гусарскую шапку с султаном.
Был еще один посетитель Лихутиной; офицер: Сергей Сергеевич Лихутин; собственно говоря, это был ее муж; он заведовал где-то там провиантом; рано поутру уходил он из дому; являлся не ранее полуночи; здоровался просто с гостями, с кротостью говорил для приличия фифку, опуская двугривенный (если были граф Авеп, Оммау-Оммергау), или скромно кивал головой на слова «
Был еще посетитель: хохол-малоросс Прилиппанченко, или просто Липпанченко; этот был сладострастен, звал Софью Петровну не ангелом, а... душканом; держался Липпанченко в границах приличия; и потому-то был вхож в этот дом.
Добродушнейший муж, Сергей Сергеевич Лихутин, подпоручик Гр-горийского его величества короля сиамского полка*58, относился с кротостью к революционному кругу знакомств дорогой половины; к представителям светского круга относился он лишь с благодушием; а хохла-малоросса, Липпанченко, всего-навсего он терпел: этот хитрый хохол походил скорее на помесь хохла с монголом, хотя слыл чисто русским; носил Липпанченко красный галстух, заколотый стразом, и беззастенчиво красил волосы в коричневый цвет. Про себя Липпанченко говорил, что экспортирует он русских свиней за границу.
Как бы ни было, Липпаиченки недолюбливал подпоручик Лихутин (про Липпанченко ходили темные слухи). Но что спрашивать, кого не любил подпоручик Лихутин: подпоручик Лихутин, разумеется, любил всех: но кого особенно Лихутин любил одно время, так это Николая Аполлоновича Аблеухова: друг друга знавали они с отроческих годин: Николай Аполлонович был шафером на свадьбе Лихутина и ежедневным посетителем квартиры на Мойке; он скрылся бесследно.
Не Сергей Сергеевич виноват в этом всем.
СТРОЙНЫЙ ШАФЕР КРАСАВЕЦ
Еще в первый день «дамства», когда Николай Аполлонович держал над Сергеем Сергеевичем высокоторжественный венец, Софью Петровну Лихутину поразил стройный шафер, красавец, цвет глаз его, белость лица и волос; глаза не глядели, как часто впоследствии, из-за стекол пенсне, а лицо подпирал золотой воротник (не у всякого есть такой); и... Николай Аполлонович зачастил: сперва раз в две недели; потом – раз в неделю; и, наконец, зачастил ежедневно; скоро Софья Петровна заметила, что лицо Николая Аполлоновича превратилось в маску: бесцельные потирания потных рук, и лягушечье выражение улыбки, увы, заслонили лицо от нее. И как только это заметила Софья Петровна, она поняла, что была в то лицо влюблена, в то, – не это: из-под лягушечьих уст, бессознательно вызывала потерянную влюбленность: и мучила Аблеухова; но, таясь от себя, рыскала по его следам, узнавала его стремленья и вкусы, им следовала, надеясь обресть в них утрату; она заломалась: явилась на сцену сперва мелопластика, а потом кирасир; появилась Варвара Евграфовна с жестяного кружкою для собирания фифок.
С той поры Сергей Сергеич Лихутии обратился всего в посетителя квартирки на Мойке: стал заведовать, где-то там, провиантом; уходил из дому рано утром; появлялся к полуночи.
Свободы не вынесла Софья Петровна: у нее был крошечный лобик; вместе с крошечным лобиком в ней таилися чувства; она была дама; а в дамах нельзя будить хаоса; в даме таится преступница; но, совершись преступление, кроме святости, ничего не останется в дамской Душе.
Скоро мы без сомнения докажем читателю существующую раздельность души Николая Аполлоновича на две половины; двойственность является принадлежностью дамы: двойственность – не мужская, а дамская принадлежность; воистину: символ мужа – единство. Лишь так получается троичность, без которой возможен ли домашний очаг?
Будь Сергей Сергеич Лихутин или Николай Аполлонович действительными единствами, а не двойцами, троичность бы была; Софья Петровна нашла бы гармонию в союзе с мужчиною; граммофон, мелопластика, Анри Безансон и Липпанченко полетели бы к черту.
Но не было единого Аблеухова. Оттого-то все то и произошло.
Что же произошло?
КРАСНЫЙ ШУТ
Собственно говоря, последние месяцы Софья Петровна держала себя вызывающе: перед граммофонной трубой, изрыгающей «
– «Уу... Урод, уу... лягушка... Ууу – красный шут*60».
Николай Аполлонович ответил спокойно:
– «Японская кукла...»
С достоинством распрямился: лицо его приняло то далекое, ею однажды пойманное выражение, вспоминая которое, она полюбила; и когда он ушел, она грохнулась на пол, царапая и кусая ковер; вдруг вскочила, простерла в дверь руки:
– «Вернись!»
В ответ ухнула дверь: Николай Аполлонович бежал к Петербургскому мосту; у моста он принял одно роковое решение (при свершении некого акта погубить свою жизнь). Выражение «
Более Софья Петровна Лихутина его не видала: из протеста к аблеуховским увлечениям
– «Я кукла – не правда ли?».
И они отвечали ей фифками. А Липпанченко ей сказал: «Вы – душкан, бранкукан, бранкукашка». Принес желтолицую куколку, бибабо, ей в подарок.
Когда она это сказала и мужу, то ничего не ответил ей муж; и ушел будто спать: он заведовал, где-то там, провиантами; он уселся писать Николаю Аполлоновичу письмо: он, Сергей Сергеевич, подпоручик Гр-горпйского полка, просит настойчиво (слово настойчиво было подчеркнуто) оставить их дом; поведение его не изменилось ни капли: так же он уходил спозаранку; возвращался к полуночи; говорил для приличия фифку, если видел барона Оммау-Оммергау, чуть-чуть хмурился, если видел Липпанченко, благодушнейшим образом кивал головой на слова
Был он высокого росту, носил белокурую бороду, обладал носом, ртом, волосами, ушами и глазами; он был, к сожалению, в темно-синих очках, и никто не знал цвета глаз; ни – чудесного глаз выраженья.
ПОДЛОСТЬ, ПОДЛОСТЬ И ПОДЛОСТЬ
В эти мерзлые первооктябрьские дни Софья Петровна была в необычном волнении; оставаясь одна, начинала она морщить лобик, и вспыхивать; подходила к окну, чтоб платочком из нежного сквозного батиста протереть запотевающее стекло; стекло начинало повизгивать; открывался вид на канал с господином в цилиндре – не более; обманувшись в предчувствии, ангел Пери зубками начинал теребить засыревший платочек, бежал надевать свою шубку из плюша и шапочку, чтоб, прижавши к носику муфту, слоняться от Мойки до набережной; даже раз зашла в цирк Чинизелли*61, увидела природное диво: бородатую женщину; чаще же забегала она на кухню, шепталась с молоденькой горничной, Маврушкой, девочкой в фартучке и в чепце. И косили глаза ее в эти минуты волнений.
Однажды она, при Липпанченко, с хохотом выхватила шпильку из шляпы; всадила в мизинчик:
– «Смотрите: не больно; я... кукла».
Липпанченко ничего не понял: сказал:
– «Вы не кукла: душкан».
И его, рассердясь, от себя прогнал ангел. Схватив шапку с наушниками, удалился Липпанченко.
Металась в оранжерейке и протирала стекло; прояснялся канал с пролетающей мимо каретой: не более.
Что же более?
Несколько дней назад Софья Петровна Лихутина возвращалась домой от баронессы R. R.: у баронессы R. R. были постукиванья*62; и – подпрыгнул стол: ничего более; но нервы Софьи Петровны естественно натянулись (после сеанса бродила по улицам); ее домовый подъезд не освещался; внутри подъездного входа так явственно видела, как уставилось на нее черное пятно, будто маска; краснело под маской, и Софья Петровна, – дернула за звонок; и когда распахнулась дверь и струя света упала на лестницу, вскрикнула Маврушка и всплеснула руками: Софья Петровна стремительно пролетела в квартиру. Маврушка видела: за спиною у барыни красное домино протянуло вперед свою черную маску веером кружев, разумеется, – черных же; хорошо, что она не повернула головки; красное домино протянуло Маврушке свой кровавый рукав, из которого торчала визитная карточка; Софья Петровна разглядывала визитную карточку, на которой начертан был череп с костями вместо дворянской короны; и было написано: «Жду вас на маскараде – такого-то числа».
Софья Петровна весь вечер проволновалась ужасно. Кто красное домино? Разумеется, он, Николай Аполлонович: ведь его она этим именем назвала... Красный шут и пришел. В таком случае как назвать подобный поступок с беззащитною женщиной?
Подлость, подлость и подлость.
Скорее бы возвращался муж: он проучит нахала; краснела, косила, кусала платочек; и – покрывалась испариной. Хоть бы кто-нибудь приходил!
Но никто не являлся.
Ну, а вдруг то не он? И явственно ощутила расстройство: было жалко расстаться с уверенностью, что шут – . он; в этих мыслях – сладко знакомое чувство; хотелось, должно быть, чтобы он обнаружил себя – совершеннейшим подлецом.
Нет – не он: не подлец же он, не мальчишка!.. Ну, а если то сам красный шут? Кто такой красный шут, – не могла себе внятно ответить: а – все-таки...
Маврушке тут приказала молчать: в маскарад же поехала; и – тайком.
Дело в том, что Сергей Сергеич Лихутин строго-настрого запретил ей бывать в маскарадах.
Кротость кротостью... вплоть до пунктика, до офицерской до чести. Скажет только: «Даю офицерское честное слово – быть тому-то, а тому – не бывать». И – ни с места: непреклонность, жестокость какая-то. Как, бывало, на лоб приподнимет очки, станет сух, неприятен и будто вырезан из белого кипариса; кипарисовым кулаком простучит; ангел Пери тогда испуганно вылетал из мужниной комнаты; носик морщился, и капали слезки.
Из числа посетителей Софьи Петровны, толковавших о
Тогда-то Лихутина рассказала почтенному Нейнтельпфайну о происшествии, конечно же, спрятав все нити: почтенный сотрудник газеты! С той поры и пошло, и пошло, что ни день – в «
О домино рассуждали и спорили; видели тут революционный террор; другие молчали да пожимали плечами.
Заговорили о появлении домино и в лихутинской оранжерейке: граф Авен, Оммау-Оммергау и лейб-гусар Шпорышев; и отпускали по этому поводу фифки; а хитрый хохол-малоросс как-то криво смеялся. Да, да: Нейнтельпфайн оказался просто скотиной – но Нейнтельпфайн не показывался: он усердно вытягивал газетные строки; и ахинея тянулась.
СОВЕРШЕННО ПРОКУРЕННОЕ ЛИЦО
Николай Аполлонович Аблеухов стоял над лестничной балюстрадою в пестром халате; раскидывал во все стороны переливчатый блеск, составляя противоположность колонне и столбику алебастра, откуда белая Ниобея поднимала
Перегнувшись через перила, что-то такое он крикнул по направлению к передней; на выкрик ответила тишина: а потом – протестующая фистула:
– «Николай Аполлонович, вы приняли меня за другого...»
Николай Аполлонович оскалился в неприятной улыбке:
– «Это вы, Александр Иванович?..»
И – лицемерно добавил он:
– «Без очков не узнал.../»
Преодолевая присутствие незнакомца, он вниз, с балюстрады, кивал головой:
– «Я, признаться, с постели: в халате» (от себя мы прибавим: последние ночи Николай Аполлонович пропадал).
Незнакомец с черненькими усиками являл жалкое зрелище на богатом фоне орнамента из старинных оружий; тем не менее он продолжал успокаивать Аблеухова – не то насмехался, не то будучи совершеннейшим простаком:
– «Это ровно ничего не значит, что вы... – пустяк: вы не барышня, да и я не барышня».
Нечего делать. Пересилив в душе неприятное впечатление, Николай Аполлонович вознамерился двинуться вниз, но, к досаде, туфелька соскочила с ноги; и босая ступня – закачалась из-под халата; Николай Аполлонович споткнулся; предположивши, что Николай Аполлонов вич в порыве угодливости бросится вниз, незнакомец бросился вверх и оставил следы мокроты на ступенях; растерянно стал между передней и верхом, сконфуженно улыбнулся.
С отчаянной независимостью стряхнул пальтецо, оказавшися в серой клетчатой паре, подъеденной молью; увидя, что важный лакей протянулся к мокреющему узелку, незнакомец мой вспыхнул:
– «Нет: это возьму я с собою...»
Незнакомец бросал удивленные, мимолетные взоры на перспективу из комнат, а Николай Аполлонович, подобравши полы халата, предшествовал незнакомцу; обоим казалось томительным странствие в блещущих перспективах: Николай Аполлонович подставлял с облегчением не лицо, а свою переливную спину; улыбка сбежала с растянутых уст; Николай Аполлонович струсил; вертелось: «Какой-нибудь благотворительный сбор – пострадавший рабочий, на вооружение...», в душе ныло: нет, нет.
Пред дверью Николай Аполлонович повернулся вдруг круто; скользнула улыбка; глядели друг другу в глаза с выжидательным выражением.
– «Пожалуйте...»
– «Не беспокойтесь...»
Приемная комната Николая Аполлоновича составляла противоположность его кабинету, пестрея, как... как бухарский халат, продолжавшийся во все принадлежности комнаты: в низкий диван, напоминающий восточное ложе, и в темно-коричневую табуретку, которая была инкрустирована полосками кости и перламутра, и в негритянский повешенный щит толстой кожи, и в суданские ржавые стрелы с массивными рукоятями, в шкуру пестрого леопарда с разинутой пастью; на табуретке стоял темно-синий кальянный прибор; и трехногая курильница с полумесяцем; но всего удивительнее была пестрая клетка, в которой вертелись зеленые попугайчики.
Николай Аполлонович пододвинул пеструю табуретку. Незнакомец же опустился на край табуретки и вытащил портсигар.
– «Вы позволите?»
– «Сделайте одолжение».
– «Вы не...»
– «Нет, не имею...»
И тотчас прибавил:
– «Впрочем, когда другие, то...»
– «Вы отворяете форточку?»
– «Ах, да нет: я люблю запах дыма».
– «Не защищайте, Николай Аполлонович, табак: говорю я по опыту... Дым проницает серое вещество... полушария засариваются».
Незнакомец вдруг с огорчением стал выщипывать усики.
– «Посмотрите вы на лицо?»
Николай Аполлонович приблизил моргавшие веки к лицу.
– «Видите?»
– «Да...»
– «Совершенно прокуренное лицо», – оборвал незнакомец, – «лицо курильщика!»
Николай Аполлонович чувствовал, как засаривались полушария мозга и как вялость лилась в организм, но он думал теперь не о свойствах табачного дыма, а о том, как с достоинством выйти из щекотливого случая, если бы незнакомец...
Эта свинцовая тяжесть не относилась к дешевенькой папироске, а к угнетенному состоянию духа хозяина. Николай Аполлонович ждал, что посетитель его оборвет болтовню, заведенную с единственной целью – терзать ожиданием – да: оборвет и напомнит о том, как он дал в свое время...
Словом, дал обязательство, которое выполнить принуждала его не одна только честь; обещание дал он с отчаянья; побудила житейская неудача; но неудача изгладилась. Казалось бы, что обещание отпадает; но обещание оставалось, хотя бы уже потому, что назад оно не было взято: Николай Аполлонович основательно о нем позабыл; а оно, обещание, продолжало жить; сам Николай Аполлонович к обещанию относился, как к шутке.
Явление разночинца наполнило Николая Аполлоновича основательным страхом. Николай Аполлонович вспомнил печальное обстоятельство: все подробности обстановки ужасного обещания; и нашел их убийственными.
Почему же... – не то, что дал обещание, а дал легкомысленной партии?
Николай Аполлонович занимался методикой социальных явлений. '
И вот он бледнел, стал зеленым; последний оттенок зависел от комнатной атмосферы.
– «Видите, Николай Аполлонович (Николай Аполлонович испуганно вздрогнул)... я, собственно, не за табаком... про табак совершенно случайно...»
– «Табак табаком: а я, собственно, не о нем, а о деле...»
– «И даже я не о деле: вся суть тут в услуге...» –
Николай Аполлонович еще более посинел; он выщипывал диванную пуговку; и выщипывал конские волоса.
– «Мне неловко, но помня...»
Услышавши резкую фистулу, произносившую «
– «О моем предложении?..»
Но взял себя в руки; и только заметил:
– «Як вашим услугам», – при этом подумал, что вежливость погубила его...
– «Виноват... пепельницу...»
УЧАЩАЛИСЬ ССОРЫ НА УЛИЦАХ
Дни стояли туманные, странные: проходил мерзлой поступью ядовитый октябрь; он на юге развесил гнилые туманы; октябрь обдувал золотой лесной шепот; и ложился на землю тот шепот, и – шелестящий осинный багрец, чтобы виться и гнаться у ног, и шушукать, сплетая из листьев свои желто-красные россыпи; а та сладкая пискотня, что купается сентябрем в волне лиственной, – не купалась давно: и синичка теперь сиротливо скакала в чернеющих сучьях, которые посылают всю осень свой свист из лесов, палисадников, парков.
Уже ледяной бурелом шел на нас оловянными тучами: но все верили в весну: на весну указывал популярный министр.
Уже пахари перестали скрести свои земли; и, бросивши бороны, сохи, они собирались под избами в кучечки; толковали и спорили, чтобы дружной гурьбою вдруг двинуться к барскому дому с колонками; во все долгие ночи сияли кровавые зарева деревенских пожаров.
Да! Так было в селах.
Так было и в городах. В мастерских, в типографиях, в парикмахерских, в молочных, в трактирчиках все вертелся многоречивый субъект; нахлобучив косматую шапку, с полей обагренной Манджурии, и засунув откуда-то взявшийся браунинг в боковой свой карман, он совал плохо набранный листик.
Все чего-то боялись, на что-то надеялись; высыпали на улицу, собираясь в толпу; и – опять рассыпаясь; в Архангельске, в Нижне-Колымске, в Саратове, в Петербурге, в Москве: поступали так все; все чего-то боялись, на что-то надеялись; высыпали на улицу; собирались в толпу и опять рассыпались.
Петербург окружает кольцо многотрубных заводов.
Многотысячный рой к ним бредет по утрам: и кишмя кишит пригород. Все заводы тогда волновались ужасно; рабочие превратилися в многоречивых субъектов; средь них циркулировал браунинг; и еще кое-что.
То волненье, кольцом охватившее Петербург, проникало и в самые петербургские центры; оно захватило сперва острова, перекинулося Литейным и Николаевским мостами; на Невском проспекте была циркуляция людской многоножки; однако состав многоножки менялся; и наблюдатель уже отмечал появление черной шапки косматой с полей обагренной Манджурии; понизился очень процент проходящих цилиндров; уже появилися беспокойные выкрики противоправительственных мальчишек, несшихся что есть духу от вокзала к Адмиралтейству и размахивающих журнальчиками.
Дни стояли туманные, странные: проходил ядовитый октябрь; пыль носилась по городу бурыми вихрями; и покорно ложился у ног шелестящий багрец, чтобы виться и гнаться у ног и шушукать, сплетая из листьев свои желто-красные россыпи слов.
Таковы были дни. По ночам забирался ли ты в подгородние пустыри, чтобы слышать все ту ж неотвязную ноту на «у»? Уууу-уууу-ууу: так звучало в пространстве; и – был ли то звук? Звук – какого-то небывалого смысла; и он достигал редкой силы и ясности; «уууу-ууууууу» раздалось негромко в полях пригородных Москвы, Петербурга, Саратова: но фабричный гудок не гудел; ветра не было; и – безмолвствовал пес.
Слышал ли ты октябревскую эту песню: тысяча девятьсот пятого года?
ЗОВЕТ МЕНЯ МОЙ ДЕЛЬВИГ МИЛЫЙ
Опираясь рукою о мрамор перил, Аполлон Аполлонович зацепился носком за сукно; и – споткнулся; непроизвольно замедлился его шаг; совершенно естественно: очи его задержалися на огромном портрете министра.
По позвоночнику Аполлона Аполлоновича пробежала мурашка: так мало топили.
Боялся пространства он.
Деревенский ландшафт его прямо пугал: за снегами, за льдами и за лесного гребенчатой линией поднималась пурга; там, по глупой случайности, он едва не замерз.
Это было тому назад лет пятьдесят.
В этот час замерзания чьи-то холодные пальцы, просунувшись в грудь, жестко гладили сердце*63: и – ледяная рука повела за собою; он шел по ступенькам карьеры, имея перед глазами все тот же невероятный простор; там, оттуда, – манила рука ледяная; летела безмерность: Империя Русская.
Аполлон Аполлонович Аблеухов за городского стеною засел много лет, ненавидя уездные сиротливые дали, дымок деревенек; и – галку; лишь раз эти дали рискнул перерезать в экспрессе: с ответственным поручением – из Петербурга в Токио.
О пребывании в Японии Аполлон Аполлонович никому не рассказывал.
Он министру говаривал:
– «Россия есть ледяная равнина; по ней рыщут волки!»
Министр же поглядывал на него, гладя белой рукой седой холеный ус; и молчал, и вздыхал; собирался было по окончании службы он...
Но он умер.
И Аполлон Аполлонович – совершенно один; позади в неизмеримости убегали века: впереди – ледяная рука открывала: неизмеримости.
Неизмеримости летели навстречу.
Русь, Русь! •
Это ты разревелась ветрами, буранами, снегом? Сенатору показалося, будто голос его призывает с бугра; только волки голодные собираются в стаи, там.
Несомненно в сенаторе – развивались: боязни пространства.
Болезнь обострилась: со времени той трагической смерти; и образ друга его посещал по ночам, чтобы в ночи поглядывать пристальным взглядом и гладить рукой седой холеный ус:
И нет его – и Русь оставил он,
Взнесенну им...
Стихотворный отрывок вставал, когда он, Аполлон Аполлонович, пересекал этот зал.
За отрывком вставал и другой:
И мнится – очередь за мной...
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений, –
Туда, в толпу теней родных,
Навек от нас ушедший гений.
Вспоминая отрывки, с особою четкостью выбегал он к просителям: подавать свои пальцы.
МЕЖДУ ТЕМ РАЗГОВОР ИМЕЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ
Разговор Николая Аполлоновича с незнакомцем – имел продолжение.
– «Мне поручено», – сказал незнакомец, принимая от Николая Аполлоновича пепельницу, – «передать на хранение вам этот вот узелочек».
– «Только-то!» – вскричал Николай Аполлонович, еще не смея поверить; и лицо его проявило бурную жизнь; он стремительно встал и направился к узелочку; тогда незнакомец встал тоже; когда же рука Николая Аполлоновича протянулася к узелку, то рука незнакомца бесцеремонно схватилась за пальцы его:
– «Я серьезно прошу вас быть бережнее, Николай Аполлонович...»
– «Аа... да, да...» – Николай Аполлонович ничего не расслышал: схватил узелок он за край полотенца:
– «Николай Аполлонович, повторяю вам: бе-ре-жнее...»
Николай Аполлонович удивился...
– «Литература?..»
– «Ну, нет...»
В это время раздался отчетливый металлический звук: что-то щелкнуло; тишину огласил тонкий писк мыши; опрокинулась мягкая табуретка; шаги незнакомца затопали в угол:
– «Николай Аполлонович, Николай Аполлонович», – раздался его голос, – «мышь, мышь... Поскорей прикажите слуге... это, это... прибрать: это мне... не могу...»
– «Вы боитесь мышей?..»
Николай Аполлонович представлял, признаться, нелепое зрелище: с мышеловкой в руке; Николай Аполлонович с величайшим вниманием разглядывал серую пленницу:
– «Мышка», – поднял он глаза на явившегося лакея; лакей повторил:
– «Она самая-с...»
– «Бегает, бегает...»
Теперь выглянул незнакомец.
– «Мышка...» – сказал Николай Аполлонович: Николай Аполлонович с нежностью относился к мышам.
Николай Аполлонович понес наконец узелок в свою комнату: мельком его поразил только вес узелка; проходя в кабинет, он споткнулся о пестрый ковер, зацепившись йогою о складку; тогда что-то звякнуло; незнакомец вскочил; рука за спиной Николая Аполлоновича описала – ту самую зигзагообразную линию, которая напугала сенатора.
Ничего не случилось: и незнакомец принялся высказывать.
– «Одиночество убивает меня: разучился совсем разговаривать; слова мои путаются».
Николай Аполлонович процедил:
– «Это, знаете, бывает со всеми».
И прикрывал узелочек кабинетных размеров портретом, изображавшим брюнеточку; покрывая
В спину ему раздавалось:
– «Я путаюсь в каждой фразе; хочу сказать слово и вместо него говорю все не то. Или вдруг забываю, как называется обыденный предмет; затвержу: лампа, лампа; потом вдруг покажется, что такого слова и нет. А спросить подчас некого».
Кстати об узелке: если бы Николай Аполлонович повнимательнее отнесся к словам посетителя быть бережнее с узелком, то, вероятно, он понял бы, что безобиднейший узелок был не так безобиден; но он, повторяю, был занят портретом.
– «Трудно жить, в торричеллиевой пустоте*64...»
– «Торичеллиевой?» – Николай Аполлонович ничего не расслышал.
– «Вот именно – и это, во имя общественности; а какое общество вижу я? Общество серых мокриц бббррр... у меня развелись мокрицы...»
Незнакомец случайно попал на любимую тему; попав на любимую тему, забыл цель прихода, свой мокренький узелочек и количество истребляемых папирос; как к молчанию принужденные, от природы болтливые люди, испытывал иногда он потребность кому бы то ни было, что бы ни было сообщить: другу, недругу, дворнику, городовому, ребенку... парикмахерской кукле в окне. По ночам сам с собой разговаривал. В обстановке роскошной приемной потребность поговорить вдруг проснулась:
– «Говорят, будто я – не есмь я, а какие-то «мы».
Но позвольте же – почему это? А вот – память расстроилась: одиночество убивает меня. И подчас даже сердишься!»
Тут незнакомец прервал свою речь. Николай Аполлонович, задвинувший стол, повернулся теперь к незнакомцу и видел, что этот последний шагает уже по его кабинетику, соря пеплом и созерцая атласное домино, здесь лежащее; увидев все то, густо так покраснел; этим только способствовал он перемене поля вниманья:
– «Какое прекрасное домино, Николай Аполлонович».
Николай Аполлонович бросился к домино.
Почти вырвал он домино; точно пойманный вор, суетливо запрятал его; спрятав, оп успокоился: но незнакомец, признаться, забыл домино и вернулся к излюбленной теме:
– «Ха, ха!» – он закуривал на ходу папироску. – «Вот вас удивляет, как я могу действовать. Я действую по своему усмотрению; что прикажете делать, мое усмотренье проводит в их деятельности колею;, собственно говоря, не я в партии; во мне партия... Это вас удивляет?»
– «Признаться: меня удивляет; признаться, не стал бы я с вами действовать вместе».
– «А все-таки вы узелочек мой взяли: мы, стало быть, действуем».
– «Ну, какое тут действие...»
– «Конечно, конечно», – и он помолчал, посмотрел; и сказал совершенно открыто.
– «Я давно хотел с вами поговорить по душам; я – мало с кем вижусь; вы знаете про методику социальных явлений и знаете Маркса; а я – не читал, вы не думайте: я начитан; но я не о том, не о цифрах».
– «О чем же?.. Позвольте: в шкапчике у меня есть коньяк».
– «Я не прочь...»
Николай Аполлонович полез в шкафчик: и – появились: граненый графинчик, граненые рюмочки.
Николай Аполлонович потчевал коньяком.
Наливая коньяк, Николай Аполлонович думал о том, что представился удобный случай ему отказаться от предложения; но из трусости не хотел теперь выказать трусость; и кроме того: не хотел он себя бременить разговором, когда можно было и письменно отказаться.
– «Читаю теперь Конан-Дойля», – трещал незнакомец, – «признаться, круг чтений моих для вас дик: я читаю историю гностицизма, Григория Нисского, Сирианина, Апокалипсис.*65 В этом, знаете, – вся моя привилегия; как-никак – я полковник движения, переведенный (за выслугу) в штаб-квартиру; а вы, Николай Аполлонович, со своей методикой и умом, только – унтер; но вы теоретик; насчет же теории у генералов – дела плоховаты; они архиереи; молоденький академист, изучивший Гарнака*66, – для архиерея досадный церковный придаток; вот и вы – лишь придаток!»
И незнакомец задумался, налил рюмочку: выпил; и – налил.
– «Вы ведь были сосланы?»
– «Да, в Якутскую область».
Наступило молчание.
Опрокинули рюмку.
– «Из Якутской области я удачно бежал; меня вывезли в бочке из-под капусты*67; и теперь я деятель из подполья; не думайте, чтобы я действовал во имя утопий иль во имя вашего железнодорожного мышления; я ведь был ницшеанцем*68. Мы все ницшеанцы: и вы ницшеанец; вы в этом не признаетесь; для нас, ницшеанцев, волнуемая социальными инстинктами масса (сказали бы вы) превращается в исполнительный аппарат, где все люди (я даже такие, как вы) – клавиатура, на которой летучие пальцы пьяписта (заметьте мое выражение) бегают, преодолевая все трудности. Таковы-то мы все».
– «То есть спортсмены от революции?»
Неловкое молчание наступило опять. Николай Аполлонович выщипывал конский волос из ложа; в теоретический спор не вступал; он привык спорить правильно.
– «Все построено на контрастах: и польза для общества привела меня в ледяные пространства; и по мере того, как я там уходил в пустоту, с меня постепенно свалились партийные предрассудки; категории, как сказали бы вы».
Там, за стеклами, в зеленоватом тумане шел взвод; проходили солдаты в шинелях; штыки прочернели в тумане.
Николай Аполлонович ощутил странный холод: вдруг –
– «А, что такое?»
Николай Аполлонович поднял голову.
– «Ничего особенного: вон подъехал ваш батюшка».
Аполлон Аполлонович не любил своих комнат, когда надевали чехлы; гулко, четко кричали паркеты.
Сам зал представлял коридор широчайших размеров. От гиряндского потолка, из лепного плодового круга спускалась стекляшками люстра, одетая кисейным чехлом; и дрожала хрусталиками.
А паркет – точно зеркало.
Стены – снег – всюду были уставлены высоконогими стульями в золотых желобках, обитые палевым плюшем; везде поднималися столбики белого алебастра; со столбиков высился алебастровый Архимед; какая-то заботливая рука поразвесила круглые рамы, там бледнотонная живопись подражала Помпее.*69
Заботливая рука принадлежала Анне Петровне: и – Аполлон Аполлонович поджал свои губы: прошел в кабинет с чем-то крупным и круглым в руке: запереться на ключ; безотчетную грусть вызывали пространства; оттуда, казалось, бежит кто-то странный.
ОСОБА
Незнакомец стал нервничать: действовал алкоголь; разговоры с собой и с другими всегда вызывали в нем грешное состояние духа; являлась гадливость по отношению к разговору; гадливость переносил на себя; с виду эти невинные разговоры его расслабляли ужасно; чем более он говорил, тем более развивалось желание: говорить до вяжущего ощущения в горле; остановиться не мог, изнуряя себя; договаривался до того, что ощущал настоящие припадки преследования, которые продолжались в снах: в ночь – по три кошмара: татары, японцы или восточные человеки своими глазами подмигивали ему; но что всего удивительнее: в это время ему вспоминалося бессмысленное, черт знает каковское, слово енфраншиш; при помощи слова боролся; являлось и наяву роковое лицо на куске темно-желтых обой; роковые явления начиналися приступами тоски, вызванной сидением на месте: Александр Иванович начинал выбегать: забегал он в трактирчики. За алкоголем являлось позорное чувство: к чулку ножки одной простодушной курсистки; все оканчивалось сном с енфраншиш.
– «Вы вот слушаете, Николай Аполлонович, мою болтовню. Я ведь спорю – не с вами: с собою лишь. Собеседник – ничто: говорю со стенами и с тумбами. Я чужие мысли не слушаю: слышу лишь то, что касается моего. Я борюсь: одиночество нападает: неделями я сижу и курю; начинает казаться: не то! Знаете ль вы?»
– «Не могу ясно представить. Слышал, что это бывает от сердца».
– «Душа моя – точно какое-то мировое пространство; оттуда на все и смотрю». .
Не дожидаясь ответа, прибавил:
– «Я называю пространством мое обиталище на Васильевском Острове: четыре стены, оклеенных обоями желтого цвета; ко мне не приходит никто; приходит Моржов, да одна там
– «Как попали туда вы?»
– «
– «Опять?»
– «Все она: страж сырого порога!»
– «Теперь понимаю, откуда бросаете вы тень – тень Неуловимого».
– «Из четырех желтых стенок».
– «Сколько вы платите за помещение?»
– «Двенадцать рублей; нет, позвольте – с полтиною».
– «Здесь-то вы предаетесь...»
– «Да, здесь: здесь пришел к убеждению, что все окна – вырезы в необъятности».
– «Вероятно, и к мысли о том, что верхи движения ведают то, что низам недоступно, ибо верх: что есть верх?»
Но Александр Иванович ответил:
– «Он есть пустота».
– «Для чего же все прочее?»
– «Да во имя болезни...»
– «Как?»
– «Да: той болезни, которая так изводит меня: имя странной болезни еще неизвестно, а признаки – знаю: тоска, галлюцинации, водка, курение; частая и тупая боль в голове; особое спинно-мозговое чувство: оно – по утрам. Вы думаете, я – один? И вы, Николай Аполлонович, – больны тоже. Больны – почти все. Ах, оставьте, пожалуйста; знаю, что скажете; все-таки: все сотрудники партии – больны той болезнью; черты во мне разве что подчеркнулись; еще в стародавние годы при встречах с товарищем я любил изучать; многочасовое собранье, дела, разговоры о благородном, возвышенном; потом, знаете ли, товарищ зовет в ресторан».
– «Ну так что же?»
– «Ну – водка; и прочее; рюмки; а я уж смотрю; если у губ появилась вот эдакая усмешка (какая, я этого, Николай Аполлонович, вам сказать не сумею), так знаю: на собеседника положиться нельзя; этот мой собеседник – больной; и ничто не гарантирует его от размягчения мозга: такой собеседник способен не выполнить обещания (Николай Аполлонович вздрогнул); способен украсть и предать, изнасиловать; присутствие его в партии – провокация. С той поры и открылось значение эдаких складочек около губ и ужимочек; всюду, всюду встречает меня мозговое расстройство, неуловимая провокация,
– «А у вас его нет?»
– «Есть!»
– «Так вы, стало быть, провокатор?»
– «Я? Да: провокатор; но провокаторство – во имя великой идеи; и опять-таки не идеи, а веянья».
– «Каково же?»
– «Определить при помощи слов? Я могу назвать его общею жаждою смерти; и я им упиваюсь».
– «Давно ли вы пьете?»
– «Да, да: появились еще любострастные чувства: в женщин я не был влюблен; как бы ото сказать: в отдельные части женского тела; и – в туалетные принадлежности: в чулки, например».
– «Да, знаете...»
Оба опять замолчали.
– «Любимая моя поза во время бессонницы, знаете, встать у стены да и распластаться, раскинуть по обе стороны руки. Вот в распластанном положении у стены (так простаиваю, Николай Аполлонович, часами) пришел я однажды к весьма необычному заключению; заключение как-то странно связалось с явлением, попятным, если принять во внимание развивающуюся болезнь».
О явлении Александр Иванович счел уместным молчать.
Явление заключалось в галлюцинации: на обоях являлось лицо; лицо было повито желто-шафранными отсветами; откровенный монгол на Александра Ивановича устремлял взор, полный ненависти. Александр Иванович зажигал папироску; монгол сквозь табачный дымок шевелил желтыми губами, и в Александре Ивановиче отдавалось слово одно:
«Гельсингфорс».
В Гельсингфорсе был Александр Иванович после бегства из мест отдаленных: там встретился с
Так почему ж – Гельсингфорс?
Волнение Александра Ивановича передалось Аблеухову: двенадцать окурков его положительно раздражали.
– «У меня трещит голова: там, на воздухе, можем мы продолжать разговор. Подождите. Я только переоденусь».
– «Отличная мысль».
Резкий стук оборвал разговор; Николай Аполлонович вознамерился осведомиться, кто там стучался; рассеянный, Александр Иванович дверь распахнул; из отверстия двери просунулся череп с ушами; череп и голова чуть не стукнулись лбами; Александр Иванович недоумевающе отлетел.
А в распахнутой двери стоял Аполлон Аполлонович с... арбузом под мышкой...
«Я, кажется, помешал...»
– «Я, Коленька, знаешь ли, нес арбузик – вот...»
Но традиции дома в осеннее время Аполлон Аполлонович, возвращаясь домой, покупал иногда астраханский арбуз, до которого был он охотник.
Мгновенье помолчали все трое; каждый испытывал откровеннейший страх.
– «Вот, папаша, – университетский товарищ... Александр Иванович Дудкин...»
– «Очень приятно-с».
Аполлон Аполлонович увидал перед собою всего только робкого человека, пришибленного нуждой.
Александр Иванович перед собою увидел лишь жалкого старика.
Николай Аполлонович – но и он успокоился.
Аполлон Аполлонович вступил в разговор; ответы Александра Ивановича были бессвязны; краснел и отвечал невпопад. Прислушался лишь к последним словам и поймал ряд отрывистых восклицаний...
– «Еще гимназистиком Коленька знал всех птиц... Читал Кайгородова*70...»
Так отрывисто покрикивал на Александра Ивановича шестидесятивосьмилетнпй старик; что-то, похожее на участие, шевельнулось.
– «Вы... так сказать... с Александром... с...»
– «Ивановичем...»
– «С Александром Ивановичем...»
Про себя Аполлон Аполлонович думал: «Что ж, быть может, к лучшему: а
– «Куда вы?»
– «По делу...»
– «Может быть... пообедали бы... Александр Иванович: отобедали бы...»
Александр Иванович посмотрел на часы:
– «Впрочем... я не стесняю...»
– «До свидания, папаша...»
– «Мое почтение-с...»
Когда они отворили дверь и пошли по гулкому коридору, то маленький Аполлон Аполлонович показался там вслед за ними – в полусумерках коридора.
И пока проходили в полусумерках коридора, – там стал Аполлон Аполлонович: вытянув шею вслед паре, глядел с любопытством:
– «Александр Иванович Дудкин... Студент университета».
В передней Николай Аполлонович остановился перед лакеем, ловя убежавшую мысль.
– «А... Мышка!»
Николай Аполлонович продолжал растирать себе лоб, вспоминая, что должен он выразить при помощи словесного символа «мышка»: с ним часто случалось такое забвение после чтения серьезных трактатов.
– «Послушайте, что вы сделали с мышкой?»
– «Повыпускали на набережную...»
Успокоенные относительно участи мышки, Николай Аполлонович с Александром Ивановичем оба тронулись в путь.
Впрочем, тронулись, потому что казалось, что с лестничной балюстрады на них кто-то смотрит: пытливо, и грустно.
ЗАБАСТОВКА
Повысыпали на улицу косматые манджурские шапки и растворялись в толпе; но толпа все росла; субъекты, манджурские шапки шли по направлению – к мрачному зданию с багрянеющим верхом; у мрачиого здания толпа состояла из одних лишь субъектов да шапок манджурскнх.
И перли, и перли в подъездные двери – так перли, так перли! И как же иначе? Рабочему некогда заниматься приличием.
Вдоль угла, близ панели, конфузясь, оттопотывал отрядик городовых; околоточный надзиратель – конфузился; серенький, в сереньком пальтеце, он покрикивал, подбирая почтительно шашку, держа вниз глаза; а ему это в спину – словесное замечание, выговор, смехи и даже: ай, ай, – непристойная брань – от мещанина Ивана Ивановича Иванова, от супруги, Иванихи, от проходившего и восставшего вместе с прочими первой гильдии купца Пузанова (рыбные промыслы и пароходство на Волге), И околоточный надзиратель покрикивал:
– «Проходите, господа, проходите!»
Настойчивее фыркали за забором мохноногие кони: из-за бревенчатых зубьев – нет, нет – поднималась косматая голова; если б встать над забором, то можно бы было увидеть: как пригнанные из степей и с нагайками в кулаках, и с винтовочным дулом за спинами, злели, и злели, нетерпеливо поплясывали на седлах; косматые лошаденки – поплясывали.
Это был отряд оренбургских казаков.
Внутри здания стояла шафранная муть, освещаемая свечами; нельзя было видеть тут ничего, кроме тел, тел и тел: согнутых; полуизогнутых, чуть-чуть согнутых и несогнутых: все обсели, обстали тела; занимали бегущие амфитеатры сидений; и не было видно кафедры:
– «Ууу-ууу-ууу». Гудело в пространстве и сквозь «ууу» раздавалось подчас:
– «Революция... Эволюция... Пролетариат... Забастовка...» Опять: «Забастовка...» Еще: «Забастовка...»
И – больше гудело.
Шла речь все о том, что и там-то, и там-то, и там-то уже – забастовка; и там-то, и там-то, и там-то уже – забастовка готовилась; потому-то и следует бастовать: бастовать вот на этом вот месте: ни с места!
БЕГСТВО
Александр Иванович возвращался приневским проспектом; огонь пролетел; открывалась Нева из-под свода Канавки; на выгнутом мостике он заметил опять ту же тень.
Александр Иванович возвращался в убогое обиталище, чтоб сидеть в одиночестве и следить: жизнь мокриц. Утренний выход был бегством от ползающих мокриц; наблюдения Александра Ивановича привели его к мысли: спокойствие ночи зависит от проведенного дня; пережитое на улицах, в ресторанчиках, в чайных приносишь домой.
С чем же он возвращался?
Переживания повлачилися глазу невидным хвостом; Александр Иванович переживания переживал в обратном порядке, убегая за спину; казалось ему, что спина пораскрылась; из этой спины, как из двери, – откинулось и собирается броситься на него самого точно тело гиганта: переживания сегодняшних суток.
Александр Иванович думал, что стоило возвратиться, как происшествия суток заломятся в дверь.
За собой он оставил блещущий мост.
За мостом, на Исакии из мути возникла скала: простирая тяжелую, покрытую зеленью руку – загадочный всадник*71; над косматою шапкой дворцового гренадера конь выкинул два копыта; а под копытом качалась косматая гренадерская шапка.
Тень скрыла огромное Всадниково лицо; ладонь врезалась в лунный воздух.
С той чреватой поры, как примчался сюда металлический Всадник, как бросил коня на финляндский гранит – надвое разделилась Россия; надвое разделились и судьбы отечества; надвое разделилась, страдая и плача, до последнего часа Россия.
Ты, Россия, как конь! В темноту, в пустоту занеслись два передних копыта; и крепко внедрились в гранитную почву – два задних.
Хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня, как отделились от почвы иные из твоих безумных сынов, – хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня, и повиснуть в воздухе без узды, чтобы низринуться после в водные хаосы? Или, может быть, хочешь ты броситься, разрывая туманы, через воздух, чтобы вместе с твоими сынами пропасть в облаках? Или, встав на дыбы, ты на долгие годы, Россия, задумалась перед грозной судьбою, сюда тебя бросившей, – среди этого мрачного севера, где и самый закат многочасен, где самое время попеременно кидается то в морозную ночь, то – в денное сияние? Или ты, испугавшись прыжка, вновь опустишь копыта, чтобы, фыркая, понести огромного Всадника в глубину равнинных пространств из обманчивых стран?
Да не будет!..
Раз взлетев на дыбы и глазами меряя воздух, медный конь копыт не опустит: прыжок над историей – будет; великое будет волнение; рассечется земля; самые горы обрушатся от великого
Петербург же опустится.
Бросятся с мест своих в эти дни все народы земные; брань великая будет, – брань, небывалая в мире: желтые полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест, обагрят поля европейские океанами крови; будет, будет – Цусима! Будет – новая Калка!..*73
Куликово Поле*74, я жду тебя!
Воссияет в тот день и последнее Солнце над моею родною землей.*75 Если, Солнце, ты не взойдешь, то, о, Солнце, под монгольской тяжелой пятой опустятся европейские берега, и над этими берегами закурчавится пена; земнородные существа вновь опустятся к дну океанов – в прародимые, в давно забытые хаосы...
Встань, о, Солнце!
Бирюзовый прорыв несся по небу; а навстречу летело сквозь тучи пятно из горящего фосфора, неожиданно превратившееся в яркоблистающий месяц; все вспыхнуло: воды, трубы, граниты, две богини над аркою, крыша четырехэтажного дома; и купол Исакия поглядел просветленный; и вспыхнул – меднолавровый венец; поугасли островные огоньки; двусмысленное судно с середины Невы обернулося рыболовною шхуною; с капитанского мостика проблистал даже трубочный огонек снзоносого боцмана в шапке, с наушниками; – светлый фонарик матроса на вахте.
Тут – судьбы людские Александру Ивановичу осветились отчетливо: можно было увидеть, что будет, чему никогда не бывать: так – стало ясно; в судьбу свою он взглянуть побоялся; стоял потрясенный.
И – врезался в облако месяц...
Снова бешено понеслись клочковатые руки, туманные пряди; двусмысленно замаячило пятно фосфора...
Оглушающий, нечеловеческий рев! Проблиставши рефлектором, несся, пыхтя керосином, автомобиль – из-под арки к реке; и – желтые, монгольские рожи прорезали площадь.
СТЕПКА
От Колпина вьется дорога: мрачнее места нет! Подъезжаете к Петербургу, проснулись: и в окнах вагонных – мертво: ни единой души, ни единой деревни, сама земля – труп.
Многотрубное, многодымное Колпино!
От Колпина вьется дорога; и – линия телеграфных столбов. Мастеровой пробирался там*76; на пороховом он работал заводе; был прогнан; и – шел пехтурой к Петербургу; мертвели тяжелые камни; взлетали шлахт-баумы, чередовалися полосатые версты; и проволока в столбах дребезжала.
Многоэтажные груды присели за фабриками; фабрики приседали за трубами – там, там; и – там; в небе не было ни облачка, а горизонт раздышался там сажей.
И мазалась ядовитая гарь; и на гари щетинились трубы; труба поднималась высоко; она – приседала; там – высился ряд истончавшихся труб, становившихся издали волосинками; можно было считать волосинки; торчала громоотводная стрелочка.
На все это Степка мой – нуль: посидел, сапоги долой; переплел свои ноги; и далее: потащился к пятну ядовитому сажи.
К вечеру отворилась дверь дворницкой: дверь завизжала; и дворник, Моржов, поднял голову; дебёлая дворничиха (у нее болело все ухо), наваливая на кучи пухлых подушек, в тот день занималась мореньем клопов.
Тут, визжа, отворилась дверь дворницкой; на пороге стоял неуверенно Степка (Моржов был его земляком: разумеется, Степка – к нему).
К вечеру появилась бутыль; появились соленые огурцы; и сапожник Бессмертный с гитарою.
– «Эвона... Землячок, землячок!» – ухмылялся Моржов.
– «Это все оттого, что у них нет понятиев», – пожимал плечами сапожник Бессмертный, трогал пальцем струну; раздавалось: бам, бам.
– «А как батько-то?»
– «Пьянствует».
– «Эвона... Земляк-то, земляк-то што», – умилялся Моржов, взявши пальцами огурец, огурец и откусывал.
– «Это все оттого, что у них нет понятиев», – пожимал плечами сапожник Бессмертный: трогал пальцем струну; раздавалось: бам, бам. И Степка рассказывал все о том, об одном: как у них на селе заводились мудреные люди, и что у мудреных людей выходило: они на селе возвещали рожденье дитяти, аслапажденье всеобщее; скоро, мол, сбудется.
– «Это все оттого, что у них нет понятиев! Понятиев не имеют: никто не имеет».
И Степка же – ни звука: смолчал, что на колпинской фабрике получали они цидули; и протчее, относительно всего: что и как. Степка ни слова; он спел песенку:
Д’тимбру – д’тилишка –
Милая Анета,
Ты не трошь питушка:
Вот тибе манета.
На песню сапожник Бессмертный повел лишь плечами; своей пятерней загудел на гитаре.
И спел:
Никогда я тебя не увижу, –
Никогда не увижу тебя:
Пузырек нашатырного спирта
В пиджаке припасен у меня.
Пузырек нашатырного спирта
В пересохшее горло волью:
Содрогаясь, паду на панели –
Не увижу голубку мою.
Степка же не остался в долгу: удивил:
Над соблазнам да над бидою
Андел стал са златой трубою –
Свете, Свете.
Бессмертный Свете!
Асени нас бессмертный Свете –
Пред Табою мы, ровно дети:
Ты – Еси
На Небеси!
Слушал в дворницкой барин, с чердачного помещения; расспрашивал про мудренейших: как возвещают: когда сие сбудется. Барин был тощий: и опоражнивал рюмочку; Степка ему назидательные слова говорил:
– «Бария вы хворый; от табаку да от водки вам скоро – капут: грешным делом, пивал: а теперича дал зарок. От табаку да от водки пошло; уж я знаю... то».
– «А откуда ты знаешь?»
– «Про водку? А Лев Николаевич – книжечку его изволили читывать?*77 – ефто самое говорит».
– «А про японца откуда ты?»
– «Про японца так водится: про японца все знают... Изволите помнить: ураган-то вот над Москвою прошел; сказывали – как, мол, что, мол; души, мол, убиенных; с того, значит, света; без покаяния, значит; еще скажу я, что быть бунту».
– «Ас Петербургом что будет?»
– «Кумирню какую-то строят китайцы!»*78
Степку взял тогда барин к себе, на чердак: нехорошее было у барина помещение.
Взял он с собой, перед собой усадил, из чемоданишка вынул писулю; писулю прочел:
«Близится великое время; остается десятилетие до начала конца: запишите и передайте потомству; всех годов будет значительней 1954 год. Это – России коснется; в России колыбель будущего».
А Степка почмыхивал носом.
– «Во, во. А какой ефто барин писал?»
– «Да за границей он, из политических ссыльных».
– «Во, во!»
– «А что, будет?»
– «Перво-наперво убиения; апосля – всеопчее недовольство: апосля же болезни всякие – мор, голод; ну там, говорят, умнейшие люди – волнения: китаец встанет на себя самого: мухамедане взволнуются; только етта не выйдет».
– «А дальше?»
– «Все протчее соберется к исходу двенадцатого*79; только в тринадцатом году... Да что! Одно пророчество есть: вонмем-де... на нас-де клинок... во что венец: и потом вот еще: у анпиратора прусскава, мол... Вот тебе, барин, пророчество! Кавчег надо строить!»
– «Как строить?»
– «Ладно, барин, посмотрим! Пошепчемся».
– «Да о чем мы пошепчемся?»
– «Все о том, об одном».
– «Все это вздор...»
ГЛАВА ТРЕТЬЯ,
в которой описано, как Николай Аполлонович Аблеухов попадает с своей затеей впросак.|
Хоть малый он обыкновенный, Но второклассный Дон-Жуан, Не Демон, даже не цыган, А просто гражданин столичный.*80 |
ПРАЗДНИК
В одном важном месте состоялось явление, то есть: было оно.
И по этому поводу в упомянутом месте явились в расшитых мундирах; и, так сказать, – оказались на месте.
Был день чрезвычайностей. Он был ясен; заискрилось все, что могло только искриться: петербургские крыши и петербургские шпицы.
Если б удосужились бросить взгляд на то важное место, то вы видели б: блеск на окнах; и блеск за окнами; на колоннах и на паркете: лак, лоск и блеск!
В чрезвычайное утро, из ослепительно белых простынь, вдруг взлетевших с кровати, юркнула фигурка, – во всем ослепительно белом: напомнила циркового наездника; по обычаю, она принялась укреплять свое тело гимнастикой, приседая на корточки до двенадцати (и более) раз. После этого окропила себе голый череп и руки: одеколоном (тройным).
По омовении черепа, рук, подбородка, ушей, Аполлон Аполлонович Аблеухов, как и прочие старички, затянулся в крахмал, пронося в отверстие панциреобразной сорочки два уха и лысину; войдя в туалетную комнату, Аполлон Аполлонович из шкапчика вынул (как прочие сановные старички) свои красного лака коробочки, где под крышкою, в мягко бархатном ложе лежали все редкие ордена: меньше прочих внесен был ему и лоск льющий мундирчик с блистающей раззолоченной грудью, суконные белые панталоны и пара перчаток, причудливой формы картоночка, ножны (с эфеса свисала серебряная бахрома); под давлением желтого ногтя взлетели все десять крышечек; и – были добыты: Белый Орел*81, соответствующая звезда; и – синяя лента; все – село на грудь. Аполлон Аполлонович стоял перед зеркалом, бело-золотой – (блеск и трепет!), рукой прижимая изящную шпагу к бедру, правой же прижимая плюмажную треуголку и пару перчаток.
Николай Аполлонович вовсе не спал эту ночь: поздно вечером подлетел лихач к дому; и Николай Аполлонович, растерянный, выскочил из пролетки, принявшись звонить, что есть сил; а когда отворили, то, не снимая шинели и путаясь в ее полах, бежал он по лестнице: пробежал ряды комнат; у желтого дома ходили какие-то тени, а Николай Аполлонович шагал у себя; в два часа ночи в комнате его все еще раздавались шаги: в половине третьего, в три, в четыре.
Неумытый и заспанный, Николай Аполлонович сидел у камина. Аполлон Аполлонович невольно остановился, отражаясь в паркетах и зеркалах на фоне трюмо, окруженный семьей толстощеких амуров, продевших свои пламена в золотые венки; и рукой Аполлон Аполлонович пробарабанил по инкрустации столика. Николай Аполлонович, очнувшись, вскочил и зажмурился: бело-золотой старичок!
Николай Аполлонович проклинал свое бренное существо и, поскольку был образом и подобием он отца, он – проклял отца; богоподобие его должно было отца ненавидеть. Николай Аполлонович отца чувственно знал, до мельчайших изгибов и до невнятных дрожаний; был чувственно абсолютно равен отцу; он но знал, где кончается он и где в нем начинается этот сенатор, носитель искристых знаков на золотом расшитой груди; оп не то что представил, скорей пережил себя – в пышном мундире; и что-то заставило его привскочить перед бело-золотым старичком:
– «Доброе утро, папаша!»
Сенатор, с какой-то наивностью, утрированной донельзя, весело и фамильярно ответил:
– «Мое почтение-с!»
Когда оба соприкасались друг с другом, то они являли подобие двух повернутых друг на друга отдушин; и пробегал неприятнейший сквознячок.
Менее всего могла походить на любовь эта близость; ее Николай Аполлонов ин ощущал как позорнейший физиологический акт; в ту минуту мог он отнестись к выделению родственности, как к выделению организма.
– «Сегодня в параде?»
И – пальцы всунулись в пальцы; и – пальцы отдернулись. Аполлон Аполлонович, видно, хотел что-то выразить, дать словесное объяснение о причинах его появления в форме; но – Аполлон Аполлонович только раскашлялся. Появился – лакей сказать: «Лошади поданы!»
Аполлон Аполлонович, обрадовавшись, стал торопиться.
Николай Аполлонович вспомнил последний ответственный циркуляр старика Аблеухова, и – Николай Аполлонович пришел к заключению: родитель его, Аполлон Аполлонович, – негодяй!..
Между тем: уже маленький старичок поднимался по лестнице, уложенной красным сукном; ноги строили, поднимаясь, углы, отчего успокоился дух: он любил симметрию.
К нему подошли старички: баки, бороды, лысины, подбородки и груди, украшенные орденами и правящие движением нашего государственного колеса; у балюстрады стояла торжественно златогрудая кучечка, обсуждающая роковое вращение колеса, пока обер-церемониймейстер с жезлом не предложил им всем выравняться.
Тотчас же после выхода старички вновь сроилися у колонн балюстрады; отметился вдруг искристый рой, из которого забасил, будто бархатный, шмель; кто-то был ниже ростом; обстали его старички; его не было видно; когда богатырского роста граф Витте с синеющею лентой через плечо, проводя рукой по сединам, с развязностью, подошел и прищурил глаза, он увидел: гудел Аполлон Аполлонович; Аполлон Аполлонович оборвал свою речь и с неяркой сердечностью, но с сердечностью, протянул свою руку руке, которая подписала только что условия одного договора*82; граф Витте нагнулся к ему по плечо приходящейся голове; и – сострил; острота же улыбки не вызвала: не улыбались на шутку и старички; и растаяла кучечка; Аполлон Аполлонович опускался по лестнице с Витте; выше их опускалися старички; ниже их – горбоносый посол, старичок красногубый, восточный; меж ними – такой, золотой и, как палка, прямой опускался сенатор на огненном фоне сукна, покрывавшего лестницу.
В этот час был парад; там стояло каре императорской гвардии.
За стальною щетиною штыков гренадер можно было увидеть ряды белоконных отрядов; золотое, сплошное, лучи отдающее зеркало медленно тронулось к пункту; трепались по воздуху пестрые эскадронные знаки; мелодично взывали серебряные оркестры; там ряд эскадронов – кирасирских, кавалергардских*83; можно было увидеть и всадников эскадронного ряда – кирасиров, кавалергардов, – таких белокурых, огромных, покрытых' броней, в белых, гладких, обтянутых пантолонах. И в панцирях, в касках, увенчанных то – серебряным голубем, то – двуглавым орлом; гарцевали ряды эскадрона; увенчанный металлическим голубем, на коне заплясал бледноусый барон Оммергау; таким же увенчанный голубем гарцевал и граф Авен, – кирасиры, кавалергарды! Из пыли кровавою тучею, опустив вниз султаны, на серых своих скакунах пронеслися галопом гусары; алели их ментики; забелели за ними накидки; гудела земля, и вверх лязгнули сабли струей серебра. Как-то вбок пролетело гусарское красное облако: и – очистился плац. И опять, там, в пространстве, возникли теперь уж лазурные всадники, отливая серебром своих лаг: дивизион гвардейских жандармов; он пожаловался трубой; но его затянуло от взоров вдруг бурою пылью; трещал барабан: и – прошли пехотинцы.
НА МИТИНГЕ
После слякости петербургские крыши купалися в солнышке.
Ангел Пери остался один; мужа не было: муж заведовал провиантами; непричесанный ангел порхал в кимоно между вазами хризантем и горой Фузи-Яма; хлопало, как атласными крыльями,
Чтобы сколько-нибудь привести себя в чувство, расстроенный ангел забрался на стеганую козетку: раскрыл свою книжечку «
Баронесса R. R. уже справлялась о книжечке: «Что вы скажете мне, ma chère?»2 Но «ma chère» ничего не сказала; и баронесса R. R. пригрозила ей пальчиком: ведь недаром же надпись на книжечке начиналась словами: «Мой деваханический друг» и кончалась: «баронесса R. R. – бренная скорлупа, но с будхической искоркой»*84.
Но – позвольте же: что такое «деваханический друг», «скорлупа»? Это вот разъяснит Безансон. И Софья Петровна в Анри Безансон – углубится, просунула носик в Анри Безансон, ощущая там запах самой баронессы (опопонакс*85), и раздался звонок; и влетела Варвара Евграфовна:
– «Что такое?» – сказала Варвара Евграфовна и – нагнулась над книжечкой...
– «Что такое? Кто дал?»
– «Баронесса...»
– «Конечно... А что?»
– «Безансон...»
– «Вы хотите сказать Анни Безант... Чушь?.. Прочли вы
Но пунцовые губки надулись.
– «Буржуазия, чувствуя свой конец, ухватилась за мистику!»
И Варвара Евграфовна победоносно окинула ангела непререкаемым взглядом через пенсне: к счастью, не поднимала истории; положив ногу на ногу, протерла пенсне.
– «Вы, конечно, будете на балу у Цукатовых...»
– «Буду», – ответствовал ангел.
– «На этом балу будет общий знакомец наш: Аблеухов».
Тут ангел вспыхнул.
– «Так вот: вы ему передайте письмо». – Сунула письмо в руки ангелу.
– «Передайте; и все тут: передадите?»
– «Не... передам...»
– «Ну так так, а мне нечего тут прохлаждаться: на митинг...»
– «Голубка, Варвара Евграфовна, возьмите с собой и меня».
– «Может быть избиение...»
– «Нет, возьмите, возьмите!»
– «Пожалуй, пойдемте. Только вы будете одеваться? и прочее там: пудриться... Так вы уж поскорее...»
– «Сейчас: в один миг!..»
– «Господи, поскорее, скорее... Корсет, – Маврушка!.. Черное шерстяное – то самое: и ботинки – которые; да нет: с высокими каблуками». И полетел на постель через стол кимоно... Маврушка путалась: Маврушка опрокинула стул...
– «Нет, не так, а потуже: потуже... Не руки у вас – обрубки... Подвязки – а, а? Сколько раз говорила?» Закракал корсет.
И Софья Петровна Лихутина с костяною шпилькой в зубах скосила глаза на письмо; на письме была сделана надпись: Аблеухову.
Непокорная прядь соскочила с затылка.
Письмо! На письме же стояло
Вот уже в шерстяном черном платье с застежкою на спине пропорхнула из спальни:
– «Идемте, идемте же... Да, кстати, письмо... От кого?..»
– «?»
– «Ну, не надо, не надо!»
Для чего так спешила? Чтобы дорогой выведывать, спрашивать, добиваться?
Что спрашивать?
У подъезда столкнулись с Липпанченко:
– «Вот так вот: вы куда?»
Софья Петровна с досадою замахала:
– «На митинг, на митинг».
Но хитрый хохол не унялся:
– «Прекрасно: я с вами».
Варвара Евграфовна вспыхнула, остановилась: уставилась на хохла.
– «Я вас, кажется, знаю: вы снимаете номер, вы, кажется... у Мантонши».
Бесстыдный хохол тут пришел в замешательство: запыхтел, приподнял свою шапку, отстал.
– «Кто этот?»
– «Липпанченко»,
– «Ну неправда: он грек из Одессы: Маврокордато; бывает он в номере у меня за стеной: не советую вам принимать его» –
Софья Петровна не слушала. Маврокордато, Липпанченко – все равно...
БЛАГОРОДЕН, СТРОЕН, БЛЕДЕН...
Они проходили по Мойке.
Оттрепетали листочками сада последнее золото и последний багрец.
– «УУУУ-УУУ-УУУ...» – так звучало в пространстве.
– «Вы слышите?»
– «Что такое?»
– «Ууу-ууу...»
– «Ничего я не слышу...»
А звук раздавался негромко в лесах и в полях, в пригородных пространствах Москвы, Петербурга, Саратова. Слышал ли ты октябревскую эту песню тысяча девятьсот пятого года?
– «Это, верно, фабричный гудок: где-нибудь забастовка».
Фабричный гудок не гудел, ветра не было; и безмолвствовал пес.
Под ногами их голубел уже мойский канал; то же светлое трехэтажное здание подпиралось колоннами; над вторым этажом проходили полоски орнаментной лепки: круг за кругом – лепные круги.
Впереди, где канал загибался, – левее, над каменным выступом, в стекленеющей бирюзе ослепительный купол Исакия поднимался так строго.
Вот Набережная: глубина, зеленоватая синь. Там далеко, далеко, и будто дальше, чем следует, опустились, принизились острова: и принизились здания; вот замоет их, хлынет на них глубина, зеленоватая синь. А над этою зеленоватою синью немилосердный закат и туда и сюда посылал свои отблески: и багрился Троицкий мост; багрился Дворец.
Вдруг над этого глубиной и над этою зеленоватою синью на фоне зари показался отчетливый силуэт: в ветре крыльями билася серая николаевка; и небрежно откинулось восковое лицо, оттопыривши губы: на синеватых заневских просторах глаза будто что-то искали, найти не могли, улетели над скромною шапочкой; не увидели – ни ее, ни Варвары Евграфовны: только видели глубину, зеленоватую синь; поднялись и упали – туда, за Неву, где принизились берега и багрились островные здания. Впереди же, сопя, пробежал полосатый бульдог, унося свой серебряный хлыстик.
Поравнявшися, чуть прищурился, чуть рукою коснулся околышка; ничего не сказал – и ушел; и багрились лишь здания.
Софья Петровна с косыми глазами, стремительно спрятав личико в муфточку, в сторону помотала головкою: не ему, а бульдогу. Варвара Евграфовна так-таки и уставилась:
– «Аблеухов?»
– «Да... кажется».
И, услышав ответ (так была близорука она), про себя зашептала:
Благороден, строен, бледен,
Волоса, как леи;
Мыслью – щедр и чувством беден
И. А. А. – кто ж он?
Революционер известный,
Хоть аристократ,
По семьи своей бесчестной
Лучше во сто крат.
Вот, он – пересоздаватель гнилого строя, которому она собирается предложить – брак: по свершении предназначенной миссии, за которой последует мировой взрыв; тут она захлебнулась (Варвара Евграфовна имела обычай заглатывать слюни).
Но Софья Петровна не слушала: повернулась, увидела: там, на выступе в светло-багровом ударе последних лучей как-то странно повернутый к ней, выгибаясь, уйдя всем лицом в воротник, отчего скатывалась фуражка, стоял Николай Аполлонович: ей казалось, что он неприятнейшим образом улыбался и во всяком случае представлял собою довольно смешную фигуру: запахнувшись в шинель, он казался сутулым, каким-то безруким – с. пренелепо плясавшим но ветру шинельным крылом.
Долго еще простоял, изогнувшись; и улыбался себе самому неприятнейшим образом, представляя собою довольно смешную фигуру безрукого с так нелепо плясавшим по ветру шинельным крылом на багровом пятне косяка; на нее не глядел: разве можно было с его близорукостью разглядеть? Он глядел далеко, будто дальше, чем следует, – куда опускались островные здания, где они протуманились в багровеющем дыме.
Она? Ей хотелось, чтобы муж ее, Сергей Сергеевич Лихутин, подойдя к подлецу, вдруг ударил его по лицу кипарисовым кулаком и сказал свое слово.
Немилосердный закат посылал удар за ударом от самого горизонта; и шли переливности розовой ряби; и выше белые облачка, будто мелкие вдавлины перебитого перламутра тонули во всем бирюзовом; то все бирюзовое равномерно лилось меж осколками розовых перламутров: да, – скоро уже хлынет темная синь, синевато-зеленая глубина: на дома, на граниты, на воду.
Заката не будет.
КОНТ – КОНТ – КОНТ!
Аполлон Аполлонович показался из двери; лакей снял уж крышку с дымящейся супницы.
В левую дверь проскочил Николай Аполлонович в мундире студента; и в высочайшем воротнике.
Аполлон Аполлонович перекинулся взором с предмета к предмету; Николай Аполлонович ощутил замешательство: у него свисали с плечей две ненужных руки; он в порыве бесплодной угодливости, подбегая к родителю, стал поламывать пальцы.
Аполлон Аполлонович перед сыном стремительно встал (все сказали б – вскочил).
Николай Аполлонович споткнулся о ножку.
Аполлон Аполлонович протянул своп губы; Николай Аполлонович прижал к губам губы.
И Аполлон Аполлонович сел. Аполлон Аполлонович ухватился за перечницу. Аполлон Аполлонович переперчивал суп.
– «Из Университета?..»
Лягушечье выражение пробежало в осклабленном рте у почтительного сыночка; от
– «Папаша, из Учреждения?» '
– «Нет, от министра...»
Мы видели: сидя в своем кабинете, сенатор пришел к убеждению, что сын – негодяй: так над собственной кровью и плотью шестидесятивосьмилетний папаша совершал умопостигаемый террористический акт.
Но то были лишь кабинетные заключения, не выносившиеся в столовую.
– «Тебе, Коленька, перцу?»
– «Мне соли бы...»
Аполлон Аполлонович, порхая перебегающими глазами, по заведенной традиции этого часа старательно мыслями избегал кабинет.
– «Я люблю перец: вкуснее...»
– «Так-с!..»
– «Так-с!..»
– «Хорошо-с...»
Занимал разговором сынка (или лучше заметить – себя).
Тяжелело молчание.
Молчанием не смущался сенатор; Николай Аполлонович за отысканием темы для разговора испытывал настоящую муку:
И неожиданно разразился:
– «Вот... я...»
– «То есть, что?»
– «Так... ничего...»
Николай Аполлонович опять неожиданно для себя разразился:
– «Вот... я...»
– «Что «
Продолжения к выскочившим словам не придумал.
Но Аполлон Аполлонович, обеспокоенный словесной смятенностью сына, капризно вдруг вскинул свой взор,
– «Позволь, что такое?»
В голове же сынка закрутились бессмысленные ассоциации:
И выкрутилось:
– «Вот... я... прочел в «Theorie der Erfahrung» Когена*86...»
Запнулся опять.
– «Что же эта за книга, голубчик мой?»
Аполлон Аполлонович в именовании сына теперь соблюдал все традиции прошлого: в общении
– «Коген, представитель современного кантианства».
– «Позволь – контианства?»
– «Нет, кантианства, папаша...»
– «Канта Конт опроверг?»*87
– «Но Конт не научен...»
– «Не знаю, не знаю, дружок: в наше время считали не так...»
Аполлон Аполлонович медленно протирал кулачками глаза, затвердивши рассеянно:
– «Конт...»
Аполлон Аполлонович рассудил: что опять его мозг неприятно страдает приливами, обусловленными геморроидальным недомоганием всей последней недели; его темно-синего цвета глаза вдруг уставились:
– «Что же эта за книга, Коленька?»
Николай Аполлонович с инстинктивною хитростью разводил философию; разговор о Когене – нейтральнейший разговор; им снимались
– «Ты бы, Коленька, читал
Николай Аполлонович, проглотивший Зигварта*90, теперь выходил с томом Милля; Аполлон Аполлонович, будто бы невзначай, его спрашивал:
– «Что ты читаешь?»
– «Милля, папаша».
– «Так-с, так-с... Очень хорошо-с!»
И теперь, разделенные до конца, приходили они бессознательно к старым воспоминаниям.
Некогда Аполлон Аполлонович был профессором философии права*91; в это время многое он прочитывал до конца; но все то – миновало бесследно; перед изящными пируэтами родственной логики Аполлон Аполлонович чувствовал беспредметную тяжесть: и не умел возражать.
Он думал: «Да, надо же Коленьке отдать справедливость: его умственный аппарат, так сказать, функционирует».
Николай Аполлонович с удовольствием чувствовал, что родитель – сознательный слушатель.
И подобие дружбы возникало к десерту; иногда становилось им жаль обрывать разговор, будто оба боялись, что каждый из них в одиночку друг другу...
Теперь оба встали: и стали расхаживать по анфиладе; а анфилада чернела; и издали, из гостиной, неслись красноватые вспышки; потрескивал огонек.
Так когда-то бродили они по пустой анфиладе – совсем мальчуган и... отец: он похлопывал по плечу белокурого мальчугана, показывал звезды:
– «Звезды, Коленька, далеко: от ближайшей – пучок пробегает к земле два с лишним... Так вот, мой родной!» – И еще нежный папенька написал сыну стих:
Дурачок, простачок
Коленька танцует:
Он надел колпачок –
На коне гарцует.
Выступали контуры столиков; луч пролетал из стекла: начинала поблескивать инкрустация. Неужели же отец пришел к заключению, будто кровь его – негодяйская? Неужели и сын посмеялся?
Дурачок, простачок
Коленька танцует:
Он надел колпачок –
На коне гарцует.
Было ли это – быть может, и не было этого... нигде, никогда?
Оба сидели в атласной гостиной, чтобы бесцельно растягивать эти свидания: вглядывались друг другу в глаза; и каминное пламя дышало теплом; и на мигающем пламени рисовался теперь Аполлон Аполлонович, бритый и старый, ушами и черепом; с точно таким вот лицом изобразили его на обложке журнальчика:
– «Часто у тебя, дружочек, бывает... мм...»
– «Кто?»
– «Как его... молодой человек...»
– «Молодой человек?»
– «С усиками».
Николай Аполлонович склабился:
– «Александр Иванович Дудкин!.. Нет...»
Подумав, прибавил он:
– «Так себе, заходит ко мне».
– «Если... если... это нескромный вопрос, то...»
– «Что?»
– «Это он по университетским делам?»
– «А впрочем... если мой вопрос, так сказать, некстати...»
– «Он студент?..»
– «Студент».
– «Не технического училища?..»
– «Нет...»
Аполлон Аполлонович знал, что сын его лжет; посмотрел на часы; нерешительно встал. Николай Аполлонович мучительно чувствовал руки и бегал глазами:
– «Да, вот... много на свете отраслей знания: глубока каждая специальность – ты прав. Знаешь ли, Коленька, я устал».
Постоял, посмотрел... не спросил, а потупился: Николай Аполлонович почувствовал стыд.
Рука тряхнула... два пальца.
– «Добрый вечер, папаша!»
– «Мое почтение-с!»
Зашаркала, зашуршала и пискнула: мышь.
Дверь сенаторского кабинета открылась: со свечкой в руке Аполлон Аполлонович пробежал в ни с чем не сравнимую комнату, чтоб предаться... газетному чтению.
Николай Аполлонович стоял у окна.
Фосфорическое пятно и туманно, и бешено проносилось по небу; протуманилась невская даль, и зелено замерцали беззвучно летящие плоскости; вспыхивал красненький огонечек и, помигав, отходил в простертую муть. За Невою, темнея, вставали громадные здания островов; и – бросали в туманы светившие очи – беззвучно, мучительно: и казалось, что – плачут. Выше – бешено простирали клочковатые руки какие-то смутные очертания; рой за роем, они восходили над невской волной.
Набережная была пуста; проходила тень полицейского, вычерняясь в туман и опять расплываясь; пропадали в тумане заневские здания; Петропавловский шпиц бросил выблеск.
Какая-то женская тень: не уходила в туман, но глядела в окно, Николай Аполлонович усмехнулся пренеприятной улыбкой: приложивши пенсне, он разглядывал тень.
Нет, нет: не – она!
Черная тень расплылась в тумане.
Звякнула металлическая задвижка в глубине коридора; в глубине промерцал свет: Аполлон Аполлонович со свечою в руке возвращался из ни с чем не сравнимого места: мышиный халат и огромные контуры мертвых ушей отчетливо промаячили издали в пляшущих светочах; из совершенной тьмы Аполлон Аполлонович Аблеухов прошел, чтобы кануть опять в совершенную тьму.
Николай Аполлонович подумал: «пора».
Николай Аполлонович знал, что до ночи митинг, что та шла на митинг, Николай Аполлонович подумал: «пора...»
ТАТАМ: ТАМ, ТАМ!
Софья Петровна тихонько упрятала носик в пуховую муфточку; Троицкий мост за спиной убегал в те немые места; и на чугунном мосту, над сырыми, сырыми перилами, над кишащей бациллами зеленоватой водой, проходили за ней сквозняками приневского ветра – котелок, трость, пальто, уши, нос.
Вдруг глаза ее остановились, расширились, заморгали, скосились: под сырыми перилами, раскорячась, сидел полосатый бульдожка; слюнявил зубами серебряный хлыстик; она бросила взгляд; и увидела: восковое лицо, над сырыми перилами, протянулося из шинели; свои оттопыривши губы, казалось, он думал какую-то думу, отдавшуюся в ней за эти последние дни, потому что за эти последние дни так мучительно пелись слова одного из романсов:
Глядя на луч пурпурного заката*92,
Стояли вы на берегу Невы.
На берегу Невы он стоял, как-то тупо уставившись в зелень, или нет, улетая туда, где принизились берега, где присели островные здания и откуда над белыми крепостными стенами так холодно протянулся под небо мучительно острый, немилосердный такой Петропавловский шпиц.
Вся она протянулась к нему – что́ слова, размышления! Он – ее не заметил; стеклянно расширив глаза, он казался безруким уродцем.
Она отошла; Николай Аполлонович медленно на нее обернулся; быстрехонько засеменил, оступаясь и путаясь в длинных полах; на углу ждал лихач: и лихач полетел; обогнал; Николай Аполлонович, наклонившись, сжимая руками ошейник бульдога, повертывался на фигурку; посмотрел, улыбнулся; лихач пролетел.
Вдруг посыпался первый снег; и такими живыми алмазиками он, танцуя, посверкивал; светлый круг фонаря озарял: бок дворцовой, каналик и каменный мостик: в глубину убегала Канавка; лихач на углу поджидал там кого-то; небрежно лежала в пролетке шинель.
Долго Софья Петровна стояла на выгибе мостика и мечтательно все глядела – в плескавший паром каналец; останавливалась в этом месте и прежде; вздыхала о Лизе, и рассуждала серьезно об ужасах «
– «Татам: там, там!.. Тататам: там, там!»
Услышала звуки бежавших шагов; поглядела – и даже не вскрикнула: вдруг как-то растерянно из-за края дворцового бока просунулось красное домино, пометалось туда и сюда, будто в поисках, и, увидев на выгибе мостика женскую тень, оно бросилось ей навстречу; спотыкалось о камни, бросая вперед свою маску с ехидною прорезью глаз; а под маской струя ледяная играла густым роем кружев; пока маска бежала по направлению к мостику, Софья Петровна Лихутина не имела времени сообразить, что домино – домино шутовское, и что какой-то безвкусный проказник (мы знаем какой) захотел пошутить, что под бархатной маскою и кружевною бородой человеческое лицо; уставились продолговатые прорези. Софья Петровна подумала (крошечным лобиком), что какая-то в мире образовалась пробоина, и, из пробоины, не из мира, сам шут побежал на нее: кто такой этот шут, но сумела б ответить.
Домино, спотыкаясь, взлетело на мостик; взлетели с шуршанием атласные лопасти и, краснея, упали туда за перила; вдруг обнаружились светло-зеленые панталонные штрипки; шут стал шутом жалким; калоша скользнула на выпуклости: шут грохнулся со всего размаху; над ним раздался просто хохот.
– «Урод – красный шут!..»
Какие-то побежали теперь бородатые люди; и раздался свисток; и шут бросился к лихачу; было видно: в пролетке бессильно барахталось красное, все стараясь на плечи накинуть шинель.
За лихачом, из-за Зимней Канавки стремительно бросился с лаем бульдог: замелькали короткие ножки; за ним, на резиновых шинах, вдогонку, уж мчались два агента из охранного отделения.
ТЕНИ
Говорила тень тени:
– «Ни звука про красное домино».
– «А вы знаете?»
– «Я до самой квартиры его проследил».
– «Ну?»
– «Инцидент не созрел».
– «Доказательства?»
– «И с чего это вы: я за ними в карман не полезу: извольте же!»
– «Доказательства? Доказательств вам надо? А – «
– «Признаюсь: не читал».
– «Но ведь наша обязанность знать то, о чем говорит Петербург; вы бы поняли, что известия о домино опередили его появление у Зимней Канавки.
– «Гм».
– «Спросите меня, кто все это в «
– «Ну кто?»
– «Нейнтельпфайн, мой сотрудник».
– «Признаюсь, этого фортеля не ожидал».
– «А еще кидаетесь на меня, осыпаете колкостями: предприятие поставлено, как часовой механизм: вы – в блаженном неведении, а уж мой Нейнтельпфайн производит сенсацию».
– «Вы, надеюсь, дадите приказ, чтобы агенты ваши пока Николай Аполлоновича оставили бы в покое».
ПРОВИЗЖАЛА БЕШЕНАЯ СОБАКА
С ее навек позорящим происшествием не могла она примириться; лучше бы Николай Аполлонович ее иначе обидел; пусть бы лучше ударил ее, пусть бы даже кинулся через мостик в своем домино, – всю бы прочую свою жизнь вспоминала б его с жутким трепетом, вспоминала бы до смерти. Софья Петровна Лихутина считала Канавку не каким-нибудь прозаическим местом, где бы можно было позволить себе то, что позволил; недаром она многократно вздыхала над звуками «Пиковой дамы»: да, да: было сходное что-то тут с Лизой в ее положении (что было сходного, – не могла бы сказать); и само собой разумеется: Николай Аполлоновича она мечтала увидеть здесь Германом. Герман?.. Повел себя Герман, как, как... он, во-первых, с трусливостью выставил на нее свою маску из-за дворцового бока; во-вторых, он, с поспешностью помахав перед ней домино, растянулся на мостике, прозаически показав панталонные штрипки (эти штрипки ведь окончательно вывели ее из себя); в завершение всех безобразий, несвойственных Герману, Герман сбежал от какой-то полиции; и маски с себя не сорвал, героическим, трагическим жестом; глухим, замирающим голосом не сказал: «Я люблю»; и в себя он не выстрелил.*93 Нет, позорное поведение Германа угасило зарю этих дней! Нет, позорное поведение Германа превратило само домино в арлекинаду; ее уронило позорное поведение это: ну, какою может быть она Лизою, если Германа нет! Месть ему, месть ему!
Бурей влетела в квартирку. В передней висели пальто да фуражка: муж был дома, и Софья Петровна Лихутина, не раздеваясь, влетела к нему, распахнув настежь дверь, – с развевающимся боа, с мягкою муфточкой, с пламенным личиком, некрасиво распухшим.
Сергей же Сергеевич приготовлялся ко сиу; тужурка его как-то скромно повисла на вешалке, а он сам в ослепительно белой сорочке, перепоясанной накрест подтяжками, стоял будто сломанный – на коленях; поблескивал образ; трещала лампадка. В полусвете синей лампадки чертилось лицо, с очень остренькою бородкою, и такого же цвета рука; и рука, и лицо, и бородка, и белая грудь были вырезаны из какого-то крепкого дерева; губы Сергея Сергеевича шевелились чуть-чуть в бледно-синенький огонечек; чуть двигались, нажимая на лоб, вместе сжатые синеватые пальцы – для крестного знаменья.
Подпоручик Лихутин сперва положил синеватые пальцы на грудь и на оба плеча, поклонился; и только потом как-то нехотя обернулся; вот он, поднимаясь с колеи, стал счищать у колена соринки, спросил:
– «Что с тобой, моя Сонюшка?»
Раздражило и как-то даже обидело хладнокровное спокойствие мужа, как обидел тот синенький огонек: там в углу; и упала на стул, закрыв личико муфточкой; на всю комнату разрыдалась.
Лицо Сергея Сергеевича подобрело, смягчилоеь; и поперечная складка разрезала лоб; появилося сердобольное выражение. Но Сергей Сергеевич неясно представил, как должен был поступить, – дать ли волю слезам, чтобы выдержать сцену, упреки в холодности, иль осторожно склониться пред Софьей Петровною, отвести ей головку от муфточки мягкой рукой, и обнять, и покрыть поцелуями: он боялся увидеть гримаску презрения и скуки; и выбрал себе средний путь: просто он потрепал по дрожащему плечику:
– «Ну, ну, Соня... Ну, полно... ребеночек мой!»
– «Ах! Оставьте, оставьте!..»
– «В чем дело? Обсудим!»
– «Оставьте, оставьте!.. У вас... холодная кровь...»
Сергей Сергеевич отошел от жены, постоял, опустился в соседнее кресло.
– «Ааа... Оставлять так жену!.. Там заведовать провиантами!.. Уходить!.. И не знать!..»
– «Ты напрасно, Сонюшка, думаешь, что не знаю... Но... видишь ли!»
– «Ах, оставьте, пожалуйста!..»
– «Видишь ли, мой дружок: с той поры, как... от пас перебрался я в эту вот комнату... Словом, есть у меня самолюбие: и свободы твоей я стеснять не хочу... Я тебя понимаю; я знаю прекрасно, тебе нелегко... У меня есть надежды: когда-нибудь снова... Не стану, не стану! Пойми и ты меня: отдаление, хладнокровие, что ли, происходит, не от холодности вовсе... Не стану, не стану!..
– «Может быть, ты хотела бы видеть, дружок, Николая Аполлоновича Аблеухова? У вас, кажется, что-то вышло? Расскажи же мне все: расскажи; мы обсудим вдвоем положение».
– «Не смейте вы мне про него говорить!.. Он – мерзавец, мерзавец!.. Другой бы давно пристрелил... А вы?.. Нет, оставьте».
И несвязно, взволнованно, все, все рассказала.
Сергей Сергеевич Лихутин был прост. А простых людей необъяснимая дикость поступка поражает сильнее, чем подлость, убийство; понять человеческую измену легко; ведь, понять – почти найти оправдание; но как объяснить, если светскому, честному человеку придет вдруг фантазия: стать на карачки, помахивая фалдами фрака? Бесцельность не может иметь никаких оправданий. Нет, лучше пусть честный вполне человек безнаказанно тратит казенные суммы; но пусть не становится он никогда на карачки.
Отчетливо Сергей Сергеевич Лихутин представил домино, раскоряченным в неосвещенном подъезде, и... стал краснеть, покраснел до морковного цвета: кровь бросилась в голову. С Николаем Аполлоновичем он игрывал в детстве; а философским способностям удивлялся; ему благородно позволил Сергей Сергеевич стать меж собой и женой и... Сергей Сергеевич Лихутин гневно, ярко, отчетливо представил себе шутовские гримасы в неосвещенном подъезде. Взволнованно заходил он по крохотной комнатушке, сжав пальцы в кулак, поднимая кулак на крутых поворотах; когда выходил из себя, этот жест у него появлялся; и Софья Петровна прекрасно почуяла жест; и немного пугалась молчания, выражавшего жест.
– «Что вы... это?»
– «Ничего... так себе...»
И Сергей Сергеевич Лихутин расхаживал по комнатушке, сжав пальцы в кулак.
Гадость, гадость и гадость! Стояло за входною дверью – а?!
Поведением Николая Аполлоновича поразился до крайности подпоручик; испытывал смесь гадливости с ужасом; испытывал чувство, какое охватывает при созерцании идиотов, свершающих отправления под себя, или при созерцании мохноногого насекомого. Недоуменье, обида и страх перешли в бешенство. Не принять во вниманье письма, оскорбить арлекинскою выходкой честь офицера!.. Сергей Сергеевич Лихутин дал честное слово – ужасного паука – раздавить, раздавить; и, приняв то решенье, расхаживал, красный, как рак, сжавши пальцы в кулак и сводя мускулистую руку на поворотах; поразил он невольно испугом и Софью Петровну: с полуоткрытыми пухлыми губками, с щечками, не отертыми от блистающих слез, наблюдала внимательно вот отсюда, из этого кресла.
– «Что вы?»
Но Сергей Сергеевич отвечал жестким голосом; в этом голосе прозвучали – угроза, и строгость, и заглушенное бешенство.
– «Ничего... так себе».
Сергей Сергеевич испытывал в эту минуту к любимой жене нечто вроде гадливости; точно и она разделила позор красной маски.
– «Ступай к себе: спи... предоставь это мне».
И Софья Петровна Лихутина, переставшая плакать, беспрекословно пошла.
Сергей Сергеевич Лихутин похаживал, да покашливал: пренеприятно, отчетливо:
Иногда деревянный кулак, будто вырезанный из пахучего, крепкого дерева, подымался над столиком; и казалось, что столик, вот-вот, разлетится на части.
Кулак разжимался.
Сергей Сергеевич Лихутин разделся, покрылся и – одеяло слетело; Сергей Сергеевич Лихутин невидящим взором уставился в какую-то точку и неожиданно для себя самого громким шепотом зашептал:
– «Пристрелю, как собаку...»
Тогда из-за стенки обиженно раздалось:
– «Что вы это?»
– «Ничего... так себе...»
Сергей Сергеевич нырнул в одеяло: закрылся им, чтоб вздыхать, умолять и грозить...
Софья Петровна стремительно с себя сбросила платье; и вся в белом, из тока вещей, которые ухитрилась она раскидать в три-четыре минуты, бросилась на постель, уронив в руки черноволосое личико с оттопыренными губами, над которыми явственно обозначились усики; кругом нее был фонтан из предметов; и Маврушка только и знала, что прибирала за барыней; стоило о какой-либо принадлежности туалета ей вспомнить, как принадлежности не было; и летели: кофточки, носовые платки, платья, шпильки, булавки.
Софья Петровна прислушивалась к неугомонному шагу Сергея Сергеевича; и слушала звуки рояля над головой: там играли тот же все старинный мотив: польки-мазурки, под звуки которой, смеясь, танцевали с ней, еще двухлетнею крошкой. И под звуки, не ведавшие ни о чем, гнев Софьи Петровны сменился усталостью и апатией по отношению к мужу, в котором сама же она пробудила, по мнению ее, ревность к
Взор упал на туалетное зеркало: и под зеркалом разглядела письмо, которое должна была передать на балу (о письме-то она позабыла). В первую минуту решила: письмо отослать. Как ей смели навязывать там какие-то письма! И отослала бы, если бы перед тем не вмешался во все ее муж (поскорей бы ложился!); теперь под влиянием протеста против «вмешательств» она очень просто взглянула на дело: конечно, конверт разорвать и прочесть там какие-то тайны; она же имела права (как он смел иметь тайны!). Миг – Софья Петровна у столика, дотронулась до чужого письма; за стеной поднялся опять шепот.
– «Что вы?»
– «Ничего... так себе».
Постель жалобно завизжала; все стихло. И Софья Петровна дрожащей рукой распечатала... и по мере того, как читала, опухшие глазки ее становились глазами; их мутность сменилась ослепительным блеском; а личико принимало отливы: сперва становилося розовой розой; когда она кончила, то лицо ее было багровым.
Весь Николай Аполлонович был – в руках: открылась возможность ему нанести за страдания непоправимый удар; и удар он получит из этих вот ручек; хотел напугать шутовским маскарадом; но шутовской маскарад но сумел он, как следует, провести; пусть теперь же изгладит себя в ней; и пусть будет Германом! Да, да, да: нанесет злой удар передачей письма. Мгновение: охватило чувство головокруженья перед тем, на какой путь себя она обрекает; но удержаться, сойти с пути – поздно: кровавое домино? Если вызвал пред ней домино, пусть свершится все прочее: пусть же будет – кровавое домино!
Дверь скрипнула: Софья Петровна успела скомкать письмо; на пороге спальни стоял ее муж во всем белом – в кальсонах. Появление постороннего человека в таком неприличии привело ее в бешенство:
– «Вы бы оделись...»
Сергей Сергеевич переконфузился, быстро вышел, и появился: в халате (успела припрятать письмо); с неприятною твердостью, необычайною для него, обратился к ней просто:
– «Софи... Дайте мне обещание: не быть завтра на вечере...»
– «Я надеюсь, что вы дадите; благоразумие вам подскажет».
Молчание.
– «Мне хотелось бы, чтобы вы после только что бывшего...»
– «Я дал за вас офицерское честное слово, что на балу вы не будете».
Молчание.
– «А в противном случае мне пришлось бы вам просто-напросто запретить».
– «Я все-таки буду...»
– «Нет, не будете!!»
Поразила угроза, с которой Сергей Сергеевич произнес эту фразу.
– «Нет, буду».
Наступило молчание, во время которого слышалось лишь какое-то клокотание у Сергея Сергеевича, отчего он схватился за горло, два раза мотнул головой, точно силяся от себя отклонить неизбежность; с неимоверным усилием подавив в себе взрыв, тихо сел:
– «Видите: не приставал к вам с подробностями. Вы же сами призвали в свидетели».
Мысль о только что происшедшем заставила его пережить какую-то порочную бездну, в которую по наклонной плоскости покатилась жена; что порочного, кроме нелепости происшествия? Он чуял, что это не просто житейский роман, не измена и не падение только. Нет, нет: тут над всем ароматы каких-то эксцессов, навек отравлявших, как синильная кислота: запах горького миндаля обонял он, войдя, и ощутил сильный приступ удушья; он наверное знал: очутись завтра Софья Петровна, жена, у Цукатовых, встреть домино, – и все пойдет прахом.
– «Видите. После того, что... Понимаете ли вы, что это – гадость и гадость; что, наконец, я дал слово, что вы там не будете. Пожалейте же себя, и меня, да и... его, потому что иначе... я...»
Софья Петровна все более возмущалась вмешательством этого офицера, смевшего появиться к ней в спальню с нелепым вмешательством; приподняв с полу платье (заметила – дезабилье) и прикрывшись, она отодвинулась в угол; из теневого угла помотала она головой:
– «Может быть, я не поехала бы, а теперь вот: поеду, поеду, поеду!» .
Что такое? В комнате – оглушительный выстрел; нечеловеческий вопль: фистула прокричала; и кипарисовый человек привскочил; хлопнуло упавшее кресло; удар кулака пополам разбил столик; дверь хлопнула; и все замерло.
Оборвались звуки польки-мазурки; над головою затопали; загудели какие-то голоса; возмущенный жилец начал сверху бить полотерною щеткой. .
И Лиху тина съежилась и обиженно зарыдала; впервые ей в жизни пришлось встретить ярость; только что здесь стоял даже... не человек, даже... не зверь; а – бешеная собака.
ВТОРОЕ ПРОСТРАНСТВО СЕНАТОРА
Спальня Аполлона Аполлоновича: четыре перпендикулярных стены и единственный вырез окна с кружевной занавесочкой; белизной отличалися простыни, полотенца и . наволочки; камердинер окрапливал пульверизатором простыню.
Аполлон Аполлонович вместо духов признавал лишь тройной одеколон.
Раздевался Аполлон Аполлонович сам.
. Быстро скидывал он свой халат; аккуратнейшим образом складывал, полагая на стул: пиджачок, миньятюрные брючки; и в нижнем белье перед отходом ко сну укреплял свое тело гимнастикой.
Он раскидывал руки и ноги; и поворачивал туловище, приседая на корточки до двенадцати и более раз; опрокинувшись на спину, Аполлон Аполлонович принимался работать ногами.
К упражнениям прибегал он особенно в дни геморроя.
После он натягивал одеяло, чтобы отправиться в путешествие, ибо сон – путешествие.
То же Аполлон Аполлонович проделал сегодня.
С головой закутавшись (за исключением кончика носа), повис над безвременной пустотой.
«Как же так – пустотой? Ну, а стены, а пол? А... так далее?..»
Аполлон Аполлонович видел всегда два пространства: одно – матерьяльное (стенки комнат, кареты),
Он, бывало, закроет глаза и откроет; и туманные пятна и звезды, как накипи заклокотавших чернот, неожиданно сложатся вдруг в отчетливую картину: креста, многогранника, лебедя, светом наполненной пирамиды. И – все разлетится.
У Аполлона Аполлоновича была своя тайна: мир контуров, трепетов, ощущений –
Перед последней минутой дневного сознания Аполлон Аполлонович, отходящий ко сну, замечал, что клокочущий крутень вдруг сроится в коридор, убегающий в неизмеримость; что самое удивительное: коридор – начинается с головы, то есть он бесконечное продолжение головы, у которой раскрылось вдруг темя – в неизмеримость; так старый сенатор перед отходом ко сну получал впечатление, будто смотрит он не глазами, а центром самой головы, то есть он, Аполлон Аполлонович, не Аполлон Аполлонович, а
Это и было
С головой закутавшись в одеяло, уже из кровати повис; уже лаковый пол отвалился от ножек кровати в неведомое – но до слуха сенатора донеслось удаленное цоканье, будто цоканье бивших копытец.
И цоканье близилось.
Странное, очень странное, чрезвычайно странное обстоятельство: ухо выставил на луну; и – да: весьма вероятно – стучали.
Он – выставил голову.
Звезда передвинулась к темени, исчезая стремительно; к ножкам железной кровати из бездны мгновенно пришли плиты пола; и беленький Аполлон Аполлонович, напоминая общипанного куренка, внезапно оперся о коврик своей желтой пяткой.
И пробежал в коридор.
Комнаты озаряла луна.
Он в исподней сорочке, с зажженною свечкой в руках путешествовал в комнаты. За встревоженным барином потянулся бульдожка, с обрубленным хвостиком, дзенькал ошейником и посапывал пришлепнутым носом.
Как плоская крышка, тяжелыми хрипами колыхалася волосатая грудь; и внимало: бледно-зеленое ухо; и странно трюмо отразило сенатора: руки и грудь оказалися стянуты синим атласом: атлас от себя отдавал металлический блеск: Аполлон Аполлонович оказался в броне; точно маленький рыцарек; из рук его протянулась не свечка, а – световое явление.
Аполлон Аполлонович расхрабрился; и – бросился в зал; цоканье раздавалось оттуда.
– «Тра-та... Тра-та-та...»
– «На основании какой же стадии Свода Законов?»
Восклицая, он видел, что равнодушный бульдожка миролюбиво посапывал рядом; но – какая же наглость! – из зала воскликнули:
– «На основании чрезвычайного правила!»
Возмущенный ответом, он бросился в зал.
Световое явление растаяло в кулачке: проструилось меж пальцев, как воздух; легло у ног лучиком; цоканье – было щелканьем языка какого-то дрянного монгола: с лицом, уже виданным в бытность в Токио; тем не менее: это был – Николай Аполлонович: виданный в Токио. Этого Аполлон Аполлонович понять не желал: протирал кулачками глаза (друг о друга затерлись два пункта – пространство руки и пространство лица). Л монгол (Николай Аполлонович) приближался с корыстною целью.
Сенатор воскликнул вторично:
– «На основании какого же правила?»
– «И какого параграфа?»
Пространство ответило:
– «Нет ни параграфов, ни правил!»
И безвестный, бесчувственный, вдруг лишенный весомости, самого ощущения тела, воздел он пространство зрачков своих (осязанием он не мог сказать положительно, что глаза нм воздеты, ибо чувство телесности было сброшено им), – по направлению к месту темени, он увидел, что темени нет: там, где мозг зажимают тяжелые кости, где нет уже взора, – там Аполлон Аполлонович в Аполлоне Аполлоновиче увидал лишь пробитую круглую брешь (в месте темени); брешь – синий круг; в роковую минуту, когда по расчетам его подбирался монгол (запечатленный в сознании, но уж невидимый) – что-то с ревом, похожим на ветер в трубе, стало быстро вытягивать сознание сквозь темянную синюю брешь: в запредельность.
Случился скандал (и сознанье отметило, что подобное было: когда, – он не помнит) – случился скандал: ветер вы свистнул Аполлона Аполлоновича из Аполлона Аполлоновича.
Аполлон Аполлонович вылетел через круглую брешь, в темноту, над своей головой (показавшейся планетой земля), и – разлетелся на искры.
Был довременный мрак; и роилось сознание – не какое-нибудь, например, мировое: сознанье простое.
Сознание теперь обернулось назад, выпустив два ощущения: опустились, как руки; и ощутили: какую-то форму (напоминающую дно ванны), налитую вонючею скверною; ощущения заполоскалися в
И сознание увидало то же самое, в чем оно обитает: желтого старичка; голыми пятками опирался о коврик он.
Сознание оказалось самим старичком; старичок прислушивался с постели к далекому цоканью.
И – Аполлон Аполлонович понял: его путешествие по коридору, по залу, по голове – только сон.
И едва он подумал, – проснулся: двойной сон!
И не сидел, а лежал, с головой закутавшись: цоканье оказалося хлопнувшей дверью.
Вернулся домой Николай Аполлонович.
– «Так-с...»
– «Так-с...»
– «Хорошо-с...»
Только неладно в спине; боязнь прикосновения к позвоночнику... Развивается: tabes dorsalis3?
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,
в которой ломается линия повествования.|
Не дай мне бог сойти с ума...*94 |
ЛЕТНИЙ САД
Изредка торопил шаг пасмурный пешеход, – окончательно затеряться: Марсово Поле не одолеть в пять минут.
Хмурился Летний сад.
Статуи поукрывались под досками; доски являли поставленный гроб; гробы обстали дорожки; в них ютились и нимфы, и сатиры, чтобы морозом не изгрызал их зуб времени: время точит на все свои зубы – изгложет и тело, и душу, и камни.
Со времен стародавних тот сад опустел, посерел, поуменьшился; развалился грот, перестали брызгать фонтаны, летняя галерея рухнула, и иссяк водопад; поуменьшился сад и присел за решеткой.
Сам Петр насадил этот сад, поливая из собственной лейки калуферы, мяты; из Соликамска он выписал кедры, из Данцига – барбарис, а из Швеции – яблони; понастроил фонтанов; и разбитые брызги зеркал просквозили здесь красным камзолом персон, завитыми их буклями, и арапскими рожами, и робронами дам; опершись на граненую ручку своей черной с золотом трости, седой кавалер подводил свою даму к бассейну; а в зеленых, кипучих водах выставлялася морда тюленя, и ахала дама; седой кавалер улыбался и черному монстру протягивал трость.
Летний сад простирался далече, простор отнимая у Марсова Поля, аллеями, обсаженными и зеленицей, и таволгой; поднимали свои розоватые трубы огромные раковины индийских морей с ноздреватых камней; и персона, посиявши плюмажную шапку, прикладывалась к отверстию: слышался хаотический шум; распивали фруктовые воды пред гротом.
И в позднейшие времена, под фигурною позой Иреллевской статуи*95, простиравшей персты в вечереющий день, раздавались шепоты, вздохи, блистали бурмитские зерна*96 гуляющих фрейлин. То было весной, в Духов день*97; вечерняя атмосфера густела; она сотрясалась от мощного, органного гласа, летевшего из сладко дремлющих ильм*98: и оттуда вдруг ширился свет – потешный, зеленый; там, в зеленых огнях, ярко-красные егеря-музыканты, протянувши свои рога, мелодически оглашали окрестность, сотрясая зефир: томный плач этих кверху воздетых рогов – ты не слышал?
Все – было; теперь того нет; побежали дорожки; и оголтелая стая кружила над крышей Петровского домика; вдруг низверглась на сучья.
Николай Аполлонович, выбритый, пробирался по мерзлой дорожке; глаза как-то странно светились; сегодня едва он решил углубиться в работу, как получил вдруг записочку; ему назначали свидание в Летнем саду. А подписано было «С». Кто мог быть «С»? Это – Софья (она изменила свой почерк) .
Николай Аполлонович имел взволнованный вид; на страницу кантовских комментариев беспрепятственно с неделю уже осаждалася пыль; этот сладостный ток ощущал он в себе... как-то глухо, далеко; открылись в нем безыменные трепеты. Может быть – то любовь? Но любовь отрицал он.
Уже он озирался тревожно, ища на дорожках знакомое очертание, в меховой черной шубе, и с меховой черной муфточкой; но не было – никого; неподалеку на лавочке какая-то развалилась кутафья*99; кутафья приподнялась, потопталась на месте, пошла на него.
– «Вы меня... не узнали?»
– «Ах!»
– «Вы, кажется, и сейчас не узнаете? Да, я – Соловьева».
– «Варвара Евграфовна!»
– «Ну, так сядемте здесь...»
Николай Аполлонович мучительно опустился: свидание назначалось здесь именно; вот – несчастное обстоятельство! Николай Аполлонович стал раздумывать, как скорей спровадить кутафью; озирался направо, налево; знакомого очертания еще не было видно.
Как-то матово там протянулася, вставши в стальной горизонт, темноватая сеть перекрещенных сучьев; иногда темноватая сеть начинала гудеть; иногда темноватая сеть начинала качаться.
– «Вы получили записку?»
– «Какую?»
– «Да с подписью «С»!
– «Как, это – вы?»
– «Ну да же...»
– «Но при чем же тут С?»
– «Как при чем. Ведь фамилия моя – Соловьева...»
Все – рухнуло.
– «Я... хотела, я думала, получили ли вы маленькое стихотворение за подписью
– «Нет, не получал».
– «Как же так? Неужели письма мои полиция перлюстрирует? Ах! Я хотела бы вас спросить кое-что о жизненном смысле...»
– «Извините, Варвара Евграфовна: времени нет».
– «Как же так?»
– «До свиданья! Вы меня, пожалуйста, извините: назначим для разговора более удобное время».
Варвара Евграфовна потянула его за шинель; он решительно встал; решительно протянул надушенные пальцы. Она не успела что-либо придумать, а он уже бежал в досаде от нее, запахнувшись надменно в меха
МАДАМ ФАРНУА
И поздненько же ангел Пери изволил открыть из подушек невинные глазки; по глазки слипались; изволил он долго еще пребывать в дремоте; под кудрями роились невнятности, беспокойства, полунамеки: и первой мыслью была мысль о вечере: что-то там будет! Но когда попыталась развить эту мысль, ее глазки закрылись; пошли беспокойства, полунамеки; восстало единственно: Помпадур, Помпадур, Помпадур! А что – Помпадур? Но душа осветила то слово: костюм Помпадур*100 – кружева валансьен, серебристые туфли, помпоны! На днях она долго так спорила со своею портнихой; мадам Фарнуа не хотела ей уступить относительно
На этом поладили.
Углублялся в размышления о мадам Фарнуа, ангел Пери мучительно чувствовал, что опять все не то; ведь – что-то такое случилось; но, пользуясь полусном, не хотела ловить ускользнувшего впечатления от действительных происшествий вчерашнего дня; наконец она вспомнила:
На невзрачное слово теперь натолкнулась она; ибо только успела она разлететься в закрытую мужнину комнату, полагая, что муж, подпоручик Лихутин, ушел по обычаю заведовать провиантом, – вдруг: к удивлению, комната оказалась запертой от нее: подпоручик Лихутин – засел там.
Тут только вспомнила – безобразную вчерашнюю сцену; и – хлопнула спаленной дверью (замкнулся на ключ? И – она!). Но, замкнувшись на ключ, увидала расколотый столик. ‘
– «Барыня, вам прикажете в комнату кофей?»
– «Не надо...»
– «Барыня, там пришли!»
– «От мадам Фарнуа?»
– «Нет, от прачки!»
Молчание.
Среди дня тут звонил кирасир с двухфунтовой бонбоньеркою шоколада: от Крафта.*101 От бонбоньерки не отказались; ему – отказали.
Около двух часов тут звонил лейб-улан с бонбоньеркою от Балле*102: отказать.
Отказали и – лейб-гусару.
В исходе десятого часа явилась девчонка от мадам Фарнуа при картонке; и – приняли тотчас; возникло хихиканье, дверь спальни щелкнула, и оттуда просунулась любопытпо заплаканная головка; раздался рассерженный крик:
- «Ну, несите скорей».
Но тогда же из кабинета просунулась голова: поглядела и спряталась.
ПЕТЕРБУРГ УШЕЛ В НОЧЬ
Над Невою бежало огромное и багровое солнце: и петербургские здания будто затаяли, обращаясь в легчайшие, аметистово-дымные кружева; а от стекол прорезался златопламенный отблеск; и от шпицев высоких рубинился блеск; и уступы, и выступы – убежали в горящую пламенность: кариатиды, карнизы кирпичных балконов.
Кровавился рыже-красный дворец*103; его строил Растрелли; лазурной стеною стоял тогда этот Старый дворец в белой стае колони; открывала окошко на невские дали покойная императрица Елизавета Петровна*104. При Александре Павловиче дворец перекрашен был: в желтую краску; при императоре Александре втором был дворец перекрашен вторично: стал рыже-красным.
Отемнялась медлительно вереница из линий и степ на сиреневом погасающем небе; и разгорались какие-то искрометные светочи; и разгорались какие-то легчайшие пламена.
И – зарело там прошлое.
Невысокая, полная дама, вся в черном, бродила под окнами желтого дома; в руке чуть дрожал ридикюльчик не петербургских фасонов; страдала одышкою; пальцы ее то и дело хватались за подбородок, усеянный седыми волосиками; хотела дрожащими пальцами приоткрыть ридикюльчик, но – ридикюльчик не слушался; наконец, ридикюльчик раскрылся, и дама достала платочек; и – повернулась к Неве: и – заплакала.
Наконец поспешила к подъезду; и – позвонила.
Дверь распахнулась; старичок с галуном, открыв дверь, из отверстия выставил плешь и прищурил слезливые глазки от нестерпимого, заневского блеска.
Дама заволновалась: не то умилением, не то скрытою робостью.
– «Не узнали?»
Тут лакейская плешь задрожала, упала в малюсенький ридикюльчик (на руку):
– «Ах, матушка, барыня!.. Анна Петровна!»
– «Да, вот, Семеныч...»
– «Какими судьбами? Аткелева?»
– Из Испании... Вот хочу посмотреть, как вы тут без меня?»
– «Барыня наша, родная... Пожалуйте-с!»
Тот же всю лестницу обволакивал бархатистый ковер; разблистался орнамент из тех же оружий: под бдительным наблюдением барыни тут когда-то повесили литовскую шапку, туда – отовсюду проржавленный меч; и ныне блистали: отсюда – литовская шапка; оттуда – крестообразная рукоять:
– «Только нет никого-с: ни барчука, ни...»
Над балюстрадой все та же стояла подставка из белого алебастра, – как прежде:
– «Как вы без меня?»
– «Да никак-с... без последствий: по-прежнему-с... Аполлон Аполлонович, барин-то, слышали?»
– «Слышала...»
– «Да, все знаки отличия... Царские милости!..»
– «Ну, а Коленька?»
– «Коленька-с, Николай Аполлонович тоись, такой, я позволю заметить, разумник-с! Красавчиком стали...»
Стены были уставлены высоконогими стульями; отовсюду меж стульев торчали холодные столбики; с белых столбиков озирали холодные мужи из алебастра; а вон – бледнотонная живопись – помпеанские фрески; охватывали и лаки, и лоски; щемило по-прежнему: старою неприязнью; о, да: в лакированном доме житейские грозы текли и бесшумно, и гибельно.
– «Что же вы, барыня, – у нас?»
– «Я?.. В гостинице».
В этой тлеющей серости проступили в окне удивленно глядящие точки: огни, огоньки, огонечки; они наливалися силой; бросалися рыжими пятнами; сверху же падали: синие, черно-лиловые, черные: ночи!
ТОПОТАЛИ ИХ ТУФЕЛЬКИ
Раздавались звонки.
Существа в голубых, белых, розовых платьях, обвеивали газами, веерами, шелками, лия атмосферу фиалочек, ландышей, тубероз; плечики, опыленные пудрой, должны были скоро покрыться испариной; перед танцами личики, плечи и обнаженные руки казались бледней и худей, чем в обычные дни; развевались их белые веера; топотали их туфельки.
Раздавались звонки.
. Входили какие-то крепкогрудые гении в стянутых фраках, в мундирах и в ментиках – правоведы, гусары и, так себе – безбородые: они разливали надежную радость и сдержанность; проникали в блистающий газами круг; глядишь – пуховой легкий веер уж бился о грудь правоведа, как бабочкино крыло; крепкогрудый гусар перекидывался пустыми намеками. И на краснеющем фоне гусарского одеяния – выделялся слегка розовеющий профиль.
Цукатовы, собственно говоря, давали не бал: был всего детский вечер, в котором желали участвовать взрослые; носилися слухи, что будут и маски; явление их удивляло, признаться. Хозяина, обладателя двух серебряных бак, называли Коко. В этом пляшущем доме он был Николаем Петровичем, главой дома, родителем девочек: восемнадцати и пятнадцати лет.
Эти милые существа были в газовых платьях, в серебряных туфельках; размахивались пушистыми веерами на экономку, на горничную, на гостящего земского деятеля мастодонтообразных размеров (родственника Коко). Наконец раздался и звонок; распахнулася дверь добела освещенного зала, и затянутый туго во фрак свой тапер, напоминая черную, голенастую птицу, споткнулся о проходящего официанта, задребезжавшего картонным листом, сплошь усеянным котильонными побрякушками.*105 Скромный тапер разложил ряд тетрадок; обдул нежно клавиши; и без видимой цели порой нажимал на педаль, напоминая исправного паровозного машиниста за пробой котлов. Убедившись в исправности инструмента, талер подобрал фалды фрака, над низеньким табуретом откинулся корпусом и уронил на клавиши пальцы; и – замер; и – громозвучный аккорд: сотряс стены.
Николай Петрович Цукатов растопыривал пальцами серебристое кружево бак, блестел лысиной, гладко выбритым подбородком, метался по парам, то отпуская невинную шуточку голубому подростку, то тыкаясь пальцами в крепкогрудого усача.
Бились блески и трепеты. Раздавалось громовое:
– «Ррэкюлэ!..»
– «Баланса во дам!..»
И опять.
– «Рррэкюлэ...»
Николай Петрович Цукатов протанцевал свою жизнь; теперь уж Николай Петрович ту жизнь дотанцовывал; дотанцовывал безобидно, не пошло; облачко не омрачало души, которая вся сияла, как солнцем горевшая лысина или как выбритый меж бак подбородок, который казался как месяц меж облаков.
Все в жизни ему вытанцовывалось.
Затанцевал еще мальчиком; танцевал лучше всех; к окончанию курса гимназии натанцевались знакомства; к окончанию факультета из круга знакомств вытанцовывался и круг покровителей; Николай Петрович пустился отплясывать службу; протанцевал он имение; и – пустился в балы; привел в дом с замечательной легкостью спутницу жизни Любовь Алексеевну; спутница оказалась с приданым; и Николай Петрович теперь танцевал у себя; вытанцовывались две дочери, детское воспитание.
Так что теперь дотанцовывал сам он себя.
БАЛ
Гостиная во время веселого вальса – придаток: убежище для мамаш. Но Любовь Алексеевна, пользуясь добродушием мужа и тем, что их дом – ко всему глубоко безразличен, и – место нейтральное, – пользуясь этим, она предоставила дирижировать танцами мужу; она – дирижировала встречами разнообразных особ; здесь встречались: деятель земский с чиновником; публицисты с директором департамента; демагог с юдофобом. В том доме бывал, даже завтракал – Аполлон Аполлонович.
И пока ее муж заплетал контрданс*106, в безразлично радушной гостиной сплеталась не раз конъюнктура.
И здесь – танцевали: по-своему.
Сегодня через зал пробирались гостинные посетители; пробирался воистину допотопного вида мужчина, с рассеянным ликом, со вздернутой складочкой сюртука, отчего между фалдами – просунулся хлястик; то – профессор статистики; с подбородка висела клочкастая борода, а на плечи, как войлок, свалилися космы.
Ввиду нараставших событий готовилось нечто вроде сближения между одного из групп сторонников не резких, гуманных реформ – с патриотическими сердцами, – сближенье условное, вызванное митинговой лавиной. Сторонники постепенных, гуманных реформ, потрясенные громом лавины, прижались к сторонникам существующих норм; но – встречного шага не делали; либеральный профессор*107 же взялся перешагнуть, так сказать, роковой сей порог; не забудем: последний протестующий адрес был им же подписан; а на последнем банкете навстречу весне поднимался бокал его.
Войдя в зал, растерялся профессор: губа ото рта отвалилась; замялся, достал из кармана платочек, чтобы отереть с усов сырость; мигал на летящие пары кадрильных фигур.
Проходил он гостиную: в трепетный светоч лазоревой люстры.
Голос остановил на пороге его.
– «Понимаете ли, сударыня: связь между японской войной, жидами, монгольским нашествием? Выходки русских жидов, выступление в Китае Больших Кулаков*108 тесно связаны...»
– «Поняла, поняла!»
Но профессор остановился: он был либералом, сторонником весьма гуманных реформ; он впервые попал в дом, ожидая здесь встретить сенатора Аблеухова; но его, видно, не было: был – редактор консервативной газеты. И профессор статистики запыхтел, стал сердито мигать, стал пофыркивать в клочковатую бороду.
Но двойной подбородок хозяйки уже повернулся к профессору, повернулся к редактору консервативной газеты; лорнетом она их друг другу представила; оба опешили, а потом просунули в руки пальцы.
Профессор конфузился, перегнулся и фыркнул, сел в кресло, стал ерзать там; а редактор как ни в чем не бывало... Мог выручить Аблеухов, но... Аблеухова не было.
Между тем раздавалося:
– «Понимаете, сударыня, деятельность жидомасонства?»
Профессор не выдержал; обращаясь к хозяйке, заметил он:
– «Позвольте, сударыня, вставить мне скромное слово науки: сведения имеют ясный источник происхождения: погромный!»
А там-то, а там-то...
Тапер элегантно гремящим ударом по басу упал в музыкальную пляску; другою рукою заправским движением перевернул нотный лист; с рукой, взвешенной в воздухе, с разжатыми пальцами меж клавиатурой и нотами, повернул выжидательно корпус к хозяину, проблистав эмалями ослепительно-белых зубов.
И навстречу жеста тапера Цукатов из бак неожиданно выставил подбородок, рисуя таперу свой знак; и потом с наклоненною головою, бодая пространство, поспешно он бросился перед парами, закрутив двумя пальцами кончик седеющей баки; за ним протянуло безвластно ангелоподобное существо гелиотроповый шарф свой; Цукатов же полетел на тапера, рыкая, как лев, на весь зал:
– «Па-де-катр, силь ву плэ!»
И за ним полетело безвластное существо, развернув гелиотроповый шарф. В коридор расторопно являлись бегущие слуги; откуда-то выносились, вносилися столики, табуреточки, стулья; несли горку свежих сандвичей на блюде, несли стопку хрупких тарелочек.
Повалила пара за парой по коридору; задвигали стульями.
Встали дымки папирос в коридоре, в курительной комнате; встали – в передней; стащивши перчатку, засунувши руку в карман, потемневшей перчаткой обвеивал щеки кадетик; обнявшись, две девочки сообщали друг другу заветные тайны, может быть, возникшие только что.
Можно было из коридора увидеть: край гулкой столовой; туда понеслись бутерброды, бутылки с вином и бутылки с шипучкой.
Л теперь оставался один лишь тапер; вытерев горячие пальцы и протирая тряпочкой клавиатуру, тапер, в чьем присутствии слуги пооткрывали все форточки, – нерешительно тронулся через лаковый коридор, напоминая черную голенастую птицу; с наслаждением он думал о чае с сандвичами.
В дверях выплыла сорокапятилетняя дама с падающим подбородком – на грудь. И глядела в лорнет.
Поодаль профессор статистики наткнулся на земского деятеля, скучавшего у прохода, узнал его, улыбнулся приветливо, защипнул двумя пальцами пуговку сюртука, словно он ухватился за якорь спасения; и теперь раздавалось:
– «По статистическим сведениям... Годовое потребление соли нормальным голландцем...»
ТОЧНО ПЛАКАЛСЯ КТО-ТО
Ждали масок. И – не было масок. Видно, был это – слух.
Раздалось дребезжанье звонка; кто-то, неприглашенный, напоминал о себе; попросился сюда из тумана, из уличной слякоти; но никто – не ответил; опять позвонили.
Выбежала десятилетняя девочка в заблиставший безлюдием зал. Там стукнула дверь; закачалась граненая ручка; когда пустота обозначилась меж стенами и дверью, до носу просунулась черная масочка.
Обнаружилась черная борода из вьющихся кружев; за бородою в дверях показался атлас, и ребенок радостно улыбнулся, захлопав в ладоши, и с криком: «Приехали маски!» пустился бежать в глубину, – где из виснущих хлопьев табачного синеватого дыма туманный профессор едва выделялся на толстых ногах.
Домино, переступал, влекло свой кровавый атлас по паркету; едва отмечалось на плитах плывущей пунцовеющей рябью отблесков; будто лужица крови бежала с паркетика на паркетик; навстречу затопали грузные ноги.
И земский деятель остановился растерянно, ухватяся рукою за клок бороды; одинокое домино умоляло не ’гнать на петербургскую слякоть, умоляло не гнать в злой туман. Земский деятель, видно, хотел пошутить, потому что он крякнул:
– «Мм... Да-да...»
Домино шло вперед на него ярко-красной рукою:
– «Скажите, пожалуйста?»
Маска – молила; она прометнулась протянутым корпусом. .
– «Вот так штука...»
Вдруг махнул он рукой, повернулся и стал – возвращаться туда, где в лазоревом электрическом свете стоял неподвижно профессор статистики, выясняясь туманно из хлопьев табачного дыма; едва не свалил его рой набегающих барышень, веющих лентами, котильонными побрякушками.
Рой тот выбежал посмотреть на забредшую маску; остановился у двери; веселые возгласы перешли в смутный шелест; смолк – шелест; была тишина. Неожиданно за спиною у барышень продекламировал кто-то:
Кто вы, кто вы, гость суровый*109,
Роковое домино?
Посмотрите – в плащ багровый
Запахнулося оно.
И кто-то запнулся:
– «Скажи, домино, уж не ты ли бегаешь на проспектах?»
– «Господа, вы читали сегодняшний «Петербургский Дневник»?»
– «А что?»
– «Да опять – домино...»
– «Господа, это глупости».
Вдруг одна из барышень, та, что строго прищурила взор на нежданного гостя, – совсем выразительно зашептала подруге.
– «Ах, глупости!»
– «Нет же – нет!»
– «Милое домино набрало в рот воды?»
– «С ним – нечего делать...»
– «Еще домино!»
– «А не хочешь ли этого?»
Так воскликнул кадетик; и через пестрые головы барышень он пустил в домино шелестящую струйку конфетти. В воздухе развилась на мгновенье дугою бумажная лента*110; дуга из бумаги, свиваясь, ослабла и опустилась на пол; домино не ответило: протянуло лишь руки. Вдруг кто-то сказал:
– «Господа, пойдемте отсюда...»
И рой – убежал.
Только та, что была ближе всех к домино, на мгновенье помедлила; взором смерила домино, отчего-то вздохнула, пошла; и опять обернулась.
СУХАЯ ФИГУРОЧКА
Николай Аполлонович будто в тумане увидел почтенного земца; и где-то вдали, в лабиринте зеркал, перед ним проплывали фигурки смеющихся барышень: а когда из этого лабиринта ударились дальние отголоски вопросов, с бумажною змейкой конфетти, – дивился он, как дивятся во сне: выходу отражения в мир; сам он глядел на все, что ни есть, как на зыбкие отражения; отражения ж приняли его самого лишь за выходца с того света: он их – разогнал.
Вот опять долетели далекие отголоски событий; и – повернулся он: и неясно, и призрачно – где-то там, где-то там – быстро зал пересекла фигурочка: без волос, без усов, без бровей. Николай Аполлонович от напряжения зрения из-за прорезей чувствовал резь в глазах (и кроме того: страдал близорукостью); выделялися контуры зеленоватых ушей – где-то там, где-то там. Что-то было знакомое, близко живое, и – Николай Аполлонович рванулся к фигурке, чтобы вплотную увидеть; фигурка откинулась, будто даже схватилась за сердце, глядела теперь на него: перед ним стояло родное лицо, сплошь в морщиночках, источивших щеки, лоб, подбородок: издали можно было принять то лицо за скопца (и скорей молодого, чем старого); а вблизи это был уже хилый старик, выдававшийся бачками: словом – под носом у себя Николай Аполлонович увидел отца. Аполлон Аполлонович, перебирая кольца цепочки, с испугом вперился глазами в атласное набежавшее домино: промелькнуло нечто вроде догадки. Николай Аполлонович ощутил неприятную дрожь: было все-таки жутко глядеть из-под маски в те взоры, перед которыми в обычное время всегда опускал он глаза; было все-таки жутко читать в этих взорах испуг и беспомощность; а догадка прочлась, как отгадка: и Николай Аполлонович подумал, что узнан. То не было правдой: Аполлон Аполлонович думал: бестактный шутник терроризирует его символом красного цвета.
И – стал щупать пульс. Николай Аполлонович не раз подмечал этот жест, производимый украдкою (видно, сердце сенатора уставало работать). Видя жест и теперь, ощутил что-то вроде он жалости. Но Аполлон Аполлонович в сердечном припадке бежал.
Вдруг раздался звонок: комната наполнилась масками; черные капуцины составили цепь вокруг красного сотоварища, заплясали какую-то пляску; их полы развеивались; пролетали и падали кончики капюшонов; на двух перекрещенных косточках вышит был череп.
Тут красное домино, отбиваясь, – бежало из залы; капуцины гнались за ним вслед; так они пролетели по коридору, влетели в столовую; все сидящие за столом им приветливо застучали тарелками.
– «Капуцины, маски, паяцы».
Повскакали с мест стаи барышень, повскакали гусары и правоведы. Цукатов, с бокалом рейнвейна, рычал свой виват.
И – кто-то заметил:
– «Господа, это слишком...»
Его увлекли танцевать.
В танцевальном зале тапер, выгибая хребет, заплясал взбитым коком волос на бегущие и рулады льющие пальцы: пустился дискант и медленно тронулся бас.
Поглядевши на черного капуцина, взвивающего атлас, существо в фиолетовой юбочке вдруг нагнулось к отверстию капюшона (в лицо ей уставилась масочка), ухватилось за горб полосатого клоуна, чья одна (голубая) нога подлетела, другая же (красная) подогнулась; но существо не боялось: подобрало свой подол; и – оттуда просунулась серебристая туфелька.
И пошло – раз, два, три...
А за ними пошли все испанки, монахи и диаволы; веера, обнаженные спины и шарфы.
ПОМПАДУР
Все туда убегало и – там – там мутнело: стены и пол; из фонтана вещей, из кисейно-кружевной пены – там – там – выходила красавица с пышно взбитыми волосами и мушкою на щеке: мадам Помпадур!
Волосы, свитые буклями, были седы; пуховка над пудреницей стыла в тоненьких пальчиках; туго стянутая, бледно-лазурная талия изогнулася с черной маской в руке; из вырезанного корсажа, дыша, притуманились груди, из узких рукавчиков зыбились валансьенные кружева; вокруг выреза, ниже выреза – кружева эти зыбились; юбка-панье, словно вставшая под дыханьем зефиров, играла гирляндой серебряных трав в виде легких фестонов; на туфельке серебрился помпон. Но в наряде она подурнела; и оттопырились слишком тяжелые губы; косили глаза: что-то ведьмовское.
Маврушка подала светлый жезл с золотой рукояткою, от которой веяли ленты: когда Помпадур протянулась к жезлу, у нее оказалась записка: «Если уедете, то более не вернетесь в мой дом. Лихутин».
Мадам Помпадур улыбнулась, уставилась в зеркало – в зеленоватую муть: из глубины же из мути просунулось восковое лицо; и она обернулася.
За плечами стоял ее муж, офицер; рассмеялась, слегка приподняв свою юбку-панье за фестончики, плавно она от него поплыла в реверансах; шуршал, колыхался ее кринолин; а когда оказалась в дверях, то рукой, на которой моталась атласная масочка, показала с улыбкой длинный нос офицеру; раздался раскатистый смех ее:
– «Маврушка, шубу!»
Тогда подпоручик Лихутин, спокойный и улыбаясь на масочку, щелкнул шпорами; и почтительно стал с меховой ее шубкой в руке; с еще большей почтительностью на плечи накинул он шубу, раскрыл настежь дверь и любезно рукой показал ей туда – в темноцветную темень; когда она в темень, шурша, проходила, покорный слуга, щелкнул шпорами; темень хлынула отовсюду, а выходная дверь – хлопнула; Сергей Сергеевич Лихутин все с теми же резкими жестами стал повсюду ходить и повсюду гасить электричество.
РОКОВОЕ
Тапер элегантно гремящим ударом по басу рванулся рукою; другою – заправским движением перевернул потный лист; Николай же Петрович Цукатов из бак неожиданно выставил выбритый подбородок, воскликнувши:
– «Па-де-катр, силь ву плэ!..» .
Николай Аполлонович, не узнавши мадам Помпадур, подал руку ей; и, взглянувши на красного кавалера движением вздернутой маски, мадам Помпадур протянула безвластную руку; другой рукой (с бьющимся веером) в лайке мадам Помпадур подобрала свой лазурный подол, и – просунулась туфелька.
И пошли, и пошли.
Раз-два-три; и – жест ножки!
– «Ты узнал меня?»
– «Нет».
Раз-два-три: и – изгиб; и – просунулась туфелька.
– «А у меня есть – письмо».
За первою парою – домино и маркизою – тронулись: арлекины, испанки, кисейные существа, веера, серебристые спины и шарфы.
Рука красного домино охватила лазурную талию, а другая рука, взявши руку, в руке ощутила письмо; темно-зеленые, черные и суконные руки всех пар, вместе с красными руками гусаров схватили все тонкие талии гелиотроповых, гридеперлевых, шелестящих танцорок.
Аполлон Аполлонович скрывал приступы сердечной болезни; сегодняшний приступ был вызван явлением красного домино: красный цвет был эмблемой Россию губившего хаоса.
Аполлон Аполлонович стыдился испуга.
Оправляясь от приступа, бросал взгляды он в зал; там мелькавшие образы имели такой отвратительный привкус: увидел он монстра с двуглавой орлиною головою*111; пересекала сухая фигурочка рыцарька с лезвием яркой шпаги, в образе и подобии светового явления: бежала неясно и тускло, она – без волос, без усов, выделялся контурами зеленоватых ушей и свисавшим на грудь бриллиантовым знаком; из масок и капуцинов на рыцарька кинулось однорогое существо и обломало у рыцаря световое явление*112: что-то издали дзанкнуло и упало подобием лучика; эта картина в сознании пробудила какое-то бывшее происшествие; и он – ощутил позвоночник, подумав,, что у него – tades dorsalis; он отвернулся от зала; прошел он в гостиную.
При его появлении все поднялись; а профессор статистики мямлил:
– «Имели случай встречаться! Я счастлив вас видеть; есть до вас, Аполлон Аполлонович, дело».
На что Аполлон Аполлонович сухо ответил:
– «Но, ведь, я принимаю от часу до двух в Учреждении».
Этим ответом отрезывал он встречу с правительством... Конъюнктура расстроилась; профессору оставалось, покинуть тот дом, чтобы впредь беспрепятственно поднимать свой бокал на банкетах.
Редактор консервативной газеты ораторствовал:
– «Вы думаете, что гибель России подготовляется в уповании социального равенства. Как бы не так! Нас хотят принести в жертву диаволу».
– «Как?» – удивилась хозяйка.
– «Удивляетесь потому, что ничего не читали...»
– «Но позвольте же, – вставил слово профессор, – вы опираетесь на измышления Таксиля*113...»
– «Таксиля?» – перебила хозяйка, достала блокнот и – стала записывать:
– «Таксиля?»
– «Нас готовятся принести в жертву: высшие ступени масонства исповедуют палладизм*114... Этот – культ...»
– «Палладизм?» – перебила хозяйка; снова стала записывать в книжечку.
– «Па-лла-... Как, как?»
Понесли уж поднос с прохладительным морсом; поставили в комнате меж гостиной и залом; из зыби пар вырывалась то та, а то эта покрытая светами девочка, с разгоревшимся личиком – вырывалась и пробегала, в соседнюю комнату, в белошелковых туфельках, топоча каблучками, наливала поспешно она из графинчика кисловатую влагу: глотала.
За нею же выпорхнул правовед и, грассируя загремевшим баском, вырывал у девочки морс, отпивал.
И счастливая пара бросалась в кипящую залу; и правовед обнял снежной перчаткою талию девочки; девочка – на белоснежной перчатке откинулась; оба вдруг упоительно залетали, упоительно закачалися, перебирая ногами и разбивая летящие платья и веера вокруг них; сами стали какими-то лучезарными брызгами.
– «Таксиль взвел на масонов обидную небылицу, – и небылице поверили; но впоследствии Таксиль признался: его заявление папе – лишь издевательство над темнотой Ватикана; и за это был проклят».
Вошел – суетливенький господинчик, с огромною бородавкою у носа, – заулыбался сенатору, растирая пальцы о пальцы; отвел он его в угол:
– «Видите... Аполлон Аполлонович... Директор N. N. департамента предложил... вам задать щекотливый вопрос».
Слышно было, как господинчик нашептывал в бледное ухо, а Аполлон Аполлонович с каким-то испугом:
– «Говорите же прямо...»
– «Вот именно: этот вот есть вопрос».
– «Так мой сын?»
– «Жалко, что шутка уже приняла неуместный характер, что пресса...»
– «И знаете: петербургской полиции отдали мы...»
– «Разумеется, для его только блага...»
Сенатор спросил:
– «Домино, говорите вы?»
– «Вот то самое».
Суетливенький господин указал на соседнюю комнату, где сутулое домино, переступая порывисто, повлекло свой атлас по плитам паркета.
СКАНДАЛ
Из танцевального зала прошло домино в угол комнаты; разорвало бумагу конверта; зашелестела записка в шуршащих руках; домино, силясь лучше увидеть, на лоб откинуло масочку: кружева бороды двумя пышными складками окрылили лицо, будто два крыла шапочки; и дрожала рука, и дрожала записочка; пот показался на лбу.
Домино теперь не видало мадам Помпадур, наблюдавшей его из угла; ушло в чтение; распахнуло атласные полосы свои, обнаружив обычный костюм – темно-зеленый сюртук; Николай Аполлонович вытащил золотое пенсне, и, приставив к глазам, он нагнулся к записочке.
Вдруг весь откинулся; ужасом уставился взор; но ее он не видел: и Софья Петровна хотела уже броситься из угла, потому что она не могла выносить этих взоров; вошли: домино нервно спрятало в пальцы записку; маску же красное домино позабыло спустить; и стояло с приподнятой масочкой, с полуоткрытым ртом и с невидящим взором.
Прибежавшая девочка остановилась перед трюмо, шнуровала, поставивши ножку на стул, свою белую туфельку.
Вдруг она увидела домино с неопущенной маской и, увидев, воскликнула:
– «Вот вы кто! Здравствуйте, Николай Аполлонович, здравствуйте: кто бы мог вас узнать?»
Николай Аполлонович как-то странно рванулся и пустился бежать: в зал.
Там стояло два ряда танцующих переливами розовых, гридеперлевых, гелиотроповых, голубоватых и белых шелков: шали, шарфы, вуали, стеклярусы, ложились на плечи; искрилась чешуйчатая спина.
Там стояло два ряда танцующих черными, зеленоватыми и красными гусарскими сукнами, золотыми воротниками и надставными плечами.
Но мимо масок стремительно пролетел Николай Аполлонович; и кровавый атлас за ним влекся на лаковых плиточках.
Бегство красного домино с вверх приподнятой маскою, под которой вперед выдавалось лицо, произвело настоящий скандал; бросились с места; случилась истерика; маски с испугу открыли свои изумленные лица; узнав бегущего Аблеухова, Шпорышев ухватил за рукав его: «Николай Аполлонович, ради бога, скажите, что с вами?» – но Николай Аполлонович как-то жалко оскалился, силясь смеяться; улыбка не вышла; он скрылся в дверях.
Барышни передавали друг другу свои впечатления; только что таинственно скользившие маски, все рыцарьки, арлекины, испанки теряли свой смысл; из-под маски двуглавого монстра, бежавшего к Шпорышеву, слышался голос:
– «Что все это значит?»
И Шпорышев узнал голос: Вергефдена!
Смятение танцевального зала передалося в гостиную: в лазоревом трепетном свете стояли гостинные посетители, выясняясь туманно из хлопьев табачного синеватого дыма, – с тревогой смотрели; и выделялась сухонькая фигурка сенатора, поджатые губы, две бачки и контур ушей: так был изображен на обертке журнальчика он.
В танцевальном же зале гуляла зараза догадок по поводу странного поведения сенаторского сынка; говорилось, во-первых, что поведение обусловлено какою-то драмой; и был пущен слух, что Николай Аполлонович и был домино, производившим сенсацию в прессе.
НУ, А ЕСЛИ...
Софья Петровна Лихутина остановилась средь зала.
Предстала пред ней ее страшная месть: конвертик теперь перешел к нему в руки; едва понимала, что сделала; не поняла, что вчера прочитала она. А теперь содержание записки предстало ей с ясностью: письмо приглашало его бросить какую-то бомбу, которая, будто бы, у него лежала в столе; бомбу ему предлагали, как кажется, бросить в...
И Софья Петровна стояла средь масок с лазурною, чуть изогнутой талией, соображая, что все это значит: конечно, то – злая и подлая шутка; его этой шуткой хотелося ей напугать: он был... трусом. А если... в письме была истина? Если... Николай Аполлонович в столе хранил бомбу? И если об этом прослышали? Теперь его схватят?..
Потом беспокойно она завертелась; забились на ней валансьенные кружева; а юбка блистала гирляндою легких фестончиков. Кучечка седобровых матрон собиралась уехать с
И слышались – причитания, шепоты.
– «Нет, вы видели? Вы понимаете?»
– «Не говорите: ужасно...»
– «Всегда говорила, ma chère, что он вырастил негодяя; tante Lise говорила; и говорил Nicolas».
– «Бедная Анна Петровна: я понимаю ее!..»
– «Вот он сам!»
– «У него ужасные уши...»
– «Его прочат в министры...»
– «Он погубит страну...»
– «Ему надо сказать...»
– «А Цукатовы увиваются – просто стыдно смотреть...»
– «Не посмеют сказать, отчего мы уедем...: мадам Цукатова из поповского роду».
Ну, а если... действительно Николай Аполлонович в столе хранит....? Стол он может толкнуть (он рассеянный). Вечером он за этим столом, может быть, занимается: с развернутой книгой. Софья Петровна вообразила отчетливо склеротический аблеуховский лоб с синеватыми жилками над рабочим столом (в столе – бомба). Бомба – это что-нибудь, к чему прикоснуться нельзя. И Софья Петровна Лихутина вздрогнула.
К Софье Петровне прилип вдруг толстейший мужчина (гренадский испанец): она в сторону, – в сторону и гренадский испанец:
– «Вы не барыня: вы – душканчик».
– «Липпанченко!» – И она ударила веером.
– «Липпанченко! объясните же мне...»
Но Липпанченко перебил:
– «Не играйте в наивность».
– «Липпанченко!»
– «Я же видел, как вы передали...»
Он жирно смеялся:
– «Поедемте-ка со мной в эту чудную ночь...»
Она вырвалась от Липпанченко.
Кастаньетами ей прищелкнул вдогонку.
Ну, а если – не шутка: а если... Нет, нет! Таких ужасов не бывает на свете; зверей таких нет, кто бы мог заставить безумного сына... Все – шутки товарищей. Глупая – приятельской шутки она испугалась. А он-то, а он-то: приятельской шутки пугался и он; да он просто – трусишка: бежал там (у Зимней Канавки); считала Канавку она не каким-нибудь прозаическим местом, откуда бы можно бежать...
И не повел себя Германом: поскользнулся, упал, показав панталонные штрипки; теперь: над наивною шуткою революционеров-друзей не смеялся; в подательнице письма не узнал ее он: побежал через зал на посмешище кавалерам и дамам. Нет, пусть же Сергей Сергеич Лихутин проучит нахала и труса! Предложит дуэль он.
Сергей Сергеич Лихутин!.. С вчерашнего вечера вел себя неприличнейшим образом: фыркал в усы и сжимал свой кулак; пожаловать в спальню в одних только нижних кальсонах; осмелиться за стеной прошагать до утра.
Смутно представились вчерашние сумасшедшие крики, налитые кровью глаза и упавший кулак: не сошел ли с ума? Он давно подозрителен: молчание всех трех месяцев; подозрительны бегства на службу; она – одинокая, бедная: ей хотелось, чтоб муж ее, как ребенка бы, обнял, понес на руках...
Вместо этого подскочил к ней испанец:
– «А, а? Не поедете?..»
Где Сергей Сергеич? Боязно ей возвратиться в квартирку на Мойке, где, как зверь, залегал он:
Притопнула каблучками:
– «Вот я покажу!..»
И опять:
– «Я его проучу!»
Софья Петровна Лихутина вздрогнула, вспоминая гримасу, с которой Сергей Сергеич ей подал ротонду. Как там он стоял! Как она рассмеялась, слегка приподняв свою юбку-панье за фестончики, и от него поплыла в реверансах (отчего не сделала реверанса при передаче письма – реверансы к пей шли)! Боязно возвращаться домой.
Но еще страшней – здесь; все почти поразъехались: молодые люди и маски; хозяин ходил с анекдотиком; сиротливо окинул опустевающий зал и толпу арлекинов.
Но арлекины, сроившись, вели себя странным образом. Кто-то из них заплясал и запел:
Уехали фон Сулицы,
Уехал Аблеухов...
Проспекты, гавань, улицы
Полны зловещих слухов!..
Исполненный предательства,
Сенатора ты славил...
Но нет законодательства,
Нет чрезвычайных правил!
Он – пес патриотический –
Носил отличий знаки;.
Но акт террористический
Свершает ныне всякий.
Николай Петрович сообразил во мгновение ока, как неприличен стишок; густо он покраснел, добродушнейшим образом посмотрел на морковного арлекина; пошел прочь от двери.
Уже гости разъехались почти все: и Лихутина одиночно слонялась по залам; в пустой анфиладе увидела: белое домино, которое как-то сразу возникло, и –
– кто-то печальный и длинный, кого будто видела многое множество раз, весь обвернутый в белый атлас, ей навстречу пошел по пустеющим залам; из-под прорезей маски смотрел светлый свет его глаз, заструился с чела, от его костенеющих пальцев...
Софья Петровна доверчиво окликнула милого обладателя домино:
– «Сергей Сергеевич!..»
Да, сомнения не было: он раскаялся во вчерашнем скандале; приехал за ней – увезти.
Софья Петровна окликнула – печального длинного:
– «Ведь это вы?..»
Но печальный и длинный так медленно покачал головой; и велел ей молчать.
Доверчиво протянула руку белому домино: как прохладен атлас! И ручка шуршала, коснувшися белой руки; и на ней уж повисла бессильно (у обладателя домино деревянною оказалась рука); из-под белого кружева обнаружилась горсть бороды, будто связка колосьев.
– «Простили меня?»
Из-под маски ответствовал вздох.
– «Отчего вы молчите?»
Печальный и длинный молчал.
Уж они проходили в переднюю: невыразимое окружало их: невыразимое тут стояло вокруг. Снявши черную масочку, утонула лицом в своем мехе; печальный и длинный, надевши пальто, своей маски не снял. С изумлением Софья Петровна глядела на длинного: удивлялась тому, что не подали офицерской одежды, но – рваное пальтецо, из которого как-то странно просунулись кисти. Вся рванулась к нему от лакеев, смотревших на зрелище; невыразимое окружало их; невыразимое тут стояло вокруг.
Но печальный и длинный на освещенном пороге так медленно покачал головой и велел ей молчать.
Стало небо сплошною и грязною слякотью; опустился на землю туман, ставши мглой, сквозь которую проступали фонарные рыжеватые пятна; над рыжим пятном, изогнувшись, упала кариатида подъезда; и – как она висла! Кусочек соседнего домика выступил полукруглыми окнами и резьбой деревянных скульптур; очертание неизвестного спутника высилось перед нею.
Рукой помахало в тумане:
– «Извозчик!»
И – все поняла: у печального очертания был ласковый голос –
– ей слышанный многое множество раз (так недавно, сегодня): во сне; а она и забыла! –
Прекрасный и ласковый голос, но... – сомнения не было: не голос Сергея Сергеевича. А она вот хотела, чтоб этот прекрасный, чужой человек был: муж. Но муж не приехал.
Кто мог это быть?
Неизвестное очертание возвышало голос: он креп, креп и креп; и казалось: под маскою Кто-то, Безмерно-Огромный. Молчание кидалось на голос; ответствовал пес. Улица убегала туда.
– «Кто же вы?»
– «Вы вот все отрекаетесь: я за всеми хожу...»*115
Софье Петровне Лихутиной тут на миг показалось, что она поняла: слезы сжали ей горло, и она захотела припасть к этим тонким ногам и руками обвиться вокруг тонких колен неизвестного, но в это мгновение загремела пролетка; и Ванька – вдвинулся в светлый свет фонаря; очертание ее усадило в пролетку; когда умоляюще протянула ему из пролетки дрожащие руки, то очертание ей велело молчать.
А пролетка уж тронулась: если б остановилась и, о, если бы, повернулась назад.
ПОЗАБЫЛА, ЧТО БЫЛО
Софья Петровна Лихутина позабыла, что было; грядущее кануло в черноватую ночь; непоправимое наползало; непоправимое обнимало ее; и – туда отошли: дом, квартирка и муж; и не знала, куда она двигалась: позади отвалился кусок только что бывшего: маскарад, арлекины; и даже – даже печальный и длинный; не знала, откуда – она.
За недавним отваливался весь сегодняшний день; передряги с мадам Фарнуа за «Maison Tricotons»; передвинулась далее, ища опоры сознанию; впечатления вчерашнего дня, – но день отвалился, как камни мощеной дороги; и грянул о некое темное дно. И раздался удар, раздробляющий камни.
Мелькнула любовь рокового несчастного лета; и – отвалилась от памяти; и раздался удар, раздробляющий камни; мелькнувши, упали: весенние разговоры ее с Nicolas Аблеуховым, годы замужества, свадьба: так некая пустота отрывала, глотая кусок за куском. И неслися удары металла, дробящие камни. Вся жизнь промелькнула, упала вся жизнь; и не было еще никогда ее жизни; и будто она – не рожденная в жизнь. Пустота начиналася у нее непосредственно за спиною (все там провалилось); и пустота продолжалась в века; в веках слышался лишь удар за ударом: то падали куски жизней; стучал металлический конь, звонко цокая в камень: у ней за спиной порастаптывал он отлетевшее; там, за спиною, погнался за ней металлический Всадник.
Она обернулась – представилось зрелище: Мощного Всадника... Там – две ноздри проницали, пылая, туман раскаленным столбом.
И – Софья Петровна очнулася: обгоняя пролетку, летел вестовой, держа факел в туман. Проблистала тяжелая медная каска; а за ним, громыхая, пылая, летела пожарная часть.
– «Что это там, пожар?» – обратилась к извозчику,
– «Сказывали – горят острова...»
Это ей доложил из тумана извозчик: пролетка остановилась на Мойке.
Все выплыло перед ней с ужасающим прозаизмом; точно не было пляшущих масок и Всадника. Маски теперь показались ей шутниками и, вероятно, знакомыми, посещавшими дом; а печальный и длинный – был кем-нибудь из
С негодованием ударила в подъездную дверь; с негодованием бухнула дверь. Тьма объяла ее, невыразимое на мгновение. охватило; но Софья Петровна Лихутина помышляла: как велит она Маврушке поставить ей самоварчик; пока ставится самовар, она будет отчитывать мужа; Маврушка подаст самовар; с мужем же помирятся.
Софья Петровна Лихутина позвонила; звонок оповестил ночную квартиру; сейчас ей послышится торопливый шаг Маврушки; шага не слышалось. Софья .Петровна обиделась и позвонила опять.
Стоит уехать из дому, как эта дура... Хорош же и муж, с нетерпением поджидает, расслышал звонок и, конечно же, понял: прислуга заснула. Ни с места! Скажите, пожалуйста! Обижается!
Софья Петровна звонилась у двери: и дребезжали звонки... Никого! И припала головкою к скважине; а за скважиною, от уха ее в расстоянье вершка явственно слышалось: прерывистое сопение. Господи Иисусе Христе, кто же мог там сопеть?
Маврушка? Нет, не Маврушка... Сергей Сергеич Лихутин? Да, он. Почему ж он молчит, не отворяет, прерывисто дышит?
В предчувствии чего-то недоброго Софья Петровна заколотилась отчаянно:
– «Отворите же!»
А за дверью продолжали: сопеть – так ужасно прерывисто.
– «Сергей Сергеич! Ну, полно...»
Молчание.
– «Что там с вами? А?»
Ту-ту-ту – отступило.
– «Что же это такое? Господи: я боюсь, я боюсь...»
Что-то громко завыло и побежало от двери, возилось и двигало стульями; громко звякнула лампа; и – прогремел отодвигаемый стол. Все притихло.
И потом раздался ужасающий грохот, будто пал потолок и будто бы осыпалась сверху известка; в этом грохоте Софью Петровну Лихутину поразил только звук: падение откуда-то сверху тяжелого человечьего тела.
ТРЕВОГА
Аполлон Аполлонович Аблеухов, говоря тривиально, не переваривал никаких выездов из дому; осмысленным выездом был выезд с докладом к министру, как это однажды заметил ему управляющий министерством юстиции.
Аполлон Аполлонович не переваривал непосредственных разговоров, естественно сопряженных с глядением друг другу в глаза. От стола его телефонные проводы бежали: во все департаменты. Аполлон Аполлонович прислушивался с удовольствием к гудению телефона.
Только раз на вопрос, из какого ведомства, кто-то с размаху ударил ладонью по отверстию телефона: Аполлон Аполлонович имел впечатление, будто он получил удар по щеке.
Всякий словесный обмен имел явную и прямую, как линия, цель. Все прочее относилося к чаепитию и куренью окурков: и он полагал, что русские люди суть пьяницы и потребители никотина (на продукты последнего предлагал он повысить налог); русского человека с головой выдавал красный нос: Аполлон Аполлонович кидался, как бык, на все красное.
Он был обладателем серого носика и тоненькой талии: шестнадцатилетней девчонки; и этим гордился.
Аполлон Аполлонович поехал к Цукатовым с единственной целью: нанести удар ведомству, которое стало что-то кокетничать с умеренной партией, подозрительной не отрицаньем порядка, а желаньем порядок чуть-чуть изменить. Аполлон Аполлонович презирал компромиссы.
Аполлон Аполлонович с неудовольствием счел обязанным для себя просидеть у Цукатовых, имея объект созерцания: конвульсии танцующих ног и кровавые складки потешных нарядов; те тряпки он видел когда-то: на площади, перед Казанским собором; там тряпки именовались знаменами.
Красные тряпки, на вечеринке, в присутствии главы Учреждения показались ему неуместною шуткой; конвульсии танцующих ног вызвали в представлении печальную меру для предотвращения преступлений.
Аполлон Аполлонович стал неприятен.
Он думал: допусти эти с виду невинные пляски, – продолжатся пляски на улице.
Аполлон Аполлонович сам плясал в юности: польку-мазурку, лансье.
Одно обстоятельство усугубило печальное настроение: вздорное домино вызвало у него припадок ангины (было ли то припадок ангины, – он еще сомневался). Так вот: домино, шут гороховый, встретилось в зале: с ужимками подбежало к нему.
Аполлон Аполлонович пытался припомнить, где эти ужимки он видел: припомнить не мог.
Аполлон Аполлонович восседал, будто палка, прямой; и с фарфоровой чашечкой в руках; перпендикулярно в ковер оперлись его ножки с поджарыми икрами, образуя нижние части, которые с верхними составляли прямые, девяностоградусные углы; Аполлон Аполлонович казался написанным на ковре египтянином.
Аполлон Аполлонович излагал систему запретов профессору статистических данных – лидеру умеренной партии и редактору консервативной газеты ив либеральных поповичей.
С обоими ему нечего было делать: у обоих были толстые животы; оба были, конечно же, красноносы (от алкогольных напитков). Один был попович; Аполлон Аполлонович имел понятную слабость: поповичей не выносить. Когда Аполлон Аполлонович разговаривал по служебному долгу с попами, он слышал всегда дурной запах от ног.
Вдруг Аполлон Аполлонович завертелся между сюртуками, принадлежащими поповичу и умеренному изменнику; волнение произошло от потрясения ушной перепонки: тапер опять упал пальцами на рояль, а звуковые созвучия воспринимал он, как скрежетания по стеклу.
Аполлон Аполлонович видел конвульсии ног, принадлежащих преступникам: виноват: танцующей молодежи; внимание его поразило опять домино.
Аполлон Аполлонович тщетно пытался припомнить, где видел его. И припомнить не мог.
А когда почтительно подлетел паршивенький господинчик, то Аполлон Аполлонович оживился до крайности.
Дело в том, что паршивенький господинчик был необходимой фигурою переходного времени, существование которой Аполлон Аполлонович в принципе порицал; но.., что поделаете? Раз фигура – существовала, с ней приходилось мириться. В паршивеньком господинчике было то хорошо, что, зная цену себе, не рядился шумихою фраз, как профессор; и не стучал неприличнейшим образом кулаком, как редактор: он, так себе, молчаливо обслуживал ведомства, состоя в одном ведомстве. Аполлон Аполлонович ценил господинчика, ибо он на равной ноге не пытался стоять – словом, был откровенным лакеем. С лакеями Аполлон Аполлонович был отменно учтив.
И Аполлон Аполлонович погрузился с фигуркою в разговор.
То, что вынес он, его поразило, как громом: кровавое домино, о котором подумал он только что, по словам господинчика, оказалося... Нет (Аполлон Аполлонович сделал гримасу, будто он увидел, как режут лимон): домино оказалося – сыном!..
Всего более поразило сенатора, что об этих гадких повадках сынка уже писала жидовская пресса; Аполлон Аполлонович пожалел, что не удосужился пробежать
Аполлон Аполлонович встал и хотел пробежать в соседнюю комнату, но из комнаты к нему подлетел гимназистик, затянутый в сюртучную пару; ему Аполлон Аполлонович чуть не подал руки; при ближайшем осмотре он оказался:... Аполлон Аполлонович чуть не кинулся в зеркало, спутавши расположение комнат.
Аполлон Аполлонович с неумеренной нервностью подходил к карточным столикам, обнаружив внезапно и вежливость, и любопытство относительно многообразных предметов: у статистика осведомлялся некстати он о Площегорской губернии; у земского ж деятеля осведомился о потреблении перца на острове Ньюфаундленд.
Докатились какие-то возникшие шепоты и кривые смешки; конвульсия танцующих ног прекратилась внезапно: на мгновение успокоился его дух. Но потом заработала голова с ужасающей ясностью; роковое предчувствие подтвердилось: сын его – ужаснейший негодяй: в продолжение нескольких дней надевать домино, подвязывать маску, волновать жидовскую прессу!
Николай Аполлонович доплясался до... (и не мог привести к отчетливой ясности мысль, до
Во всяком случае, Аполлон Аполлонович лишался поста: не мог он принять его, не отмывши позорных порочащих пятен негодного сына.
Аполлон Аполлонович подал всем палец и стремительно побежал из гостиной в сопровождении хозяев; когда,, пролетая по залу, он озирался по направлению стен, то он видел: кучечка седобровых матрон – расшепталась.
До слуха его долетело:
– «Цыпленок».
Аполлон Аполлонович не выносил безголовых цыплят, продаваемых в лавках.
ПИСЬМО
Николай Аполлонович за четверть часа до сенатора вышел из дома; очнулся в прострации перед подъездом Цукатовых: в сплошном темном сне, в темной слякоти, машинально считая количество стоявших карст и следя за движением кого-то печального, длинного, распоряжавшегося порядком.
Вдруг прошелся печальный и длинный мимо носа его: околоточный надзиратель, разгневанный на студента в шинели, тряхнул белольняной бородкою.
В сплошном сне, в темной слякоти поглядело рыжее пятно фонаря; выступил кусочек соседнего домика; домик был черный, одноэтажный, с резьбой деревянных скульптур.
Едва Николай Аполлонович тронулся, как заметил: захлюпали в луже какие-то мягкие части; пытался управиться: мягкие части не повиновались ему; они имели всю видимость очертания ног, но ног он не слышал (ног не было); так оп опустился у выступа черного домика.
Это было естественно в его положении; естественно распахнул он шинель, обнаруживши красное пятно домино; закопался в карманах и вытащил мятый конвертик; его перечитывал снова, старался отыскать след шутки, или – след издевательства:
«Помня летнее предложение, мы спешим вас, товарищ, уведомить, что вам поручается приступить к совершению дела...» – далее Николай Аполлонович не мог прочитать, потому что там стояло имя отца – и далее: «Нужный вам материал в виде бомбы своевременно передан в узелке; желательно, чтобы дело было исполнено в ближайшие дни...» Далее – следовал лозунг: были знакомы и лозунг, и почерк: писал – Неизвестный.
Сомнения не было.
У Николая Аполлоновича повисли руки и ноги, губа отвалилась.
Николай Аполлонович старался все уцепиться за праздные мысли; мысли о количестве книжек, вмещаемых полкою книжного шкафа, и об узорах оборки, которой обшита была юбочка прежде любимой особы (что эта особа есть Софья Петровна, – не вспоминалось) .
Старался не думать, не понимать: разве есть понимание
В душе его что-то жалобно промычало, как вол под ножом быкобойца.
Старался цепляться за внешности, ничего себе: кариатида... И – нет! Ничего подобного он никогда не видал: виснет над пламенем. А вон – черный домик.
Нет!
Домик неспроста; неспроста и все: все сместилося в нем, сорвалось; сам с себя он сорвался.
Вот ноги... – Нет, нет! Не ноги; а мягкие части тут праздно болтаются.
Подъезд, где только что он безумствовал, стал распахиваться: оттуда валили; кареты там тронулись, тронулись огни фонарей. Николай Аполлонович с усилием тронулся с приступочки домика: в закоулок.
И – закоулок был пуст: так же пуст, как душа. На минуту пытался он вспомнить о том,, что события бренного мира не посягают нисколько на мысль и что мыслящий мозг лишь феномен сознания; подлинный дух-созерцатель способен светить ему: даже с
И ничего не светило.
Сознание тщетно тщилось светить; не светило: ужасная темнота! Озираясь, дополз до пятна фонаря; под пятном лепетала струя тротуара, неслась апельсинная корочка.
Николай Аполлонович опять принялся за записочку:
«Помня летнее предложение», – перечитывал Николай Аполлонович и старался к чему-то придраться; придраться не мог.
«Помня летнее предложение...» Предложение – было; р нем он забыл: он однажды лишь вспомнил, да – нахлынуло домино; он окинул недавнее прошлое: там была какая-то дама: так себе, дама.
И центра сознания не было: была подворотня; в душе – пустая дыра; над дырою задумался Николай Аполлонович. Где и когда он стоял так же – вот? Вспомнил: подобным же образом он стоял в сквозняках приневского ветра, перегнувшись через перила моста, и глядел в зараженную бациллами воду (все было когда-то: и – множество раз).
«Мы спешим вас уведомить, что...» – читал Николай Аполлонович; и – обернулся: за спиной раздавались шаги; какая-то непонятная тень замаячила в сквозняках закоулка. Николай Аполлонович за плечами увидел: котелок, трость, пальто, бороденку и нос.
Все то проходило, не обратило внимания (только слышался шаг, да билось сердце); Николай Аполлонович обернулся, глядел в грязноватый туман – туда, куда стремительно проходили; он долго стоял изогнувшись (все – было когда-то) и, раскрывая свой рот, представлял довольно смешную фигуру безрукого (ведь он был в николаевке) с так нелепо плясавшим по ветру шинельным крылом...
«Нужный вам материал в виде бомбы своевременно передан в узелке...» Николай Аполлонович к фразе придрался: не передан! Все это – шутка... Бомбы нет у него?!
В узелке?!
Тут припомнились: узелок, посетитель, сентябрьский денек; и – все прочее; он взял узелочек, а узелочек был мокрый.
Его охватил невыразимый испуг: он почувствовал колотье: тьма объяла его*116; а «я» оказалось лишь черным вместилищем, если не было тесным чуланом; и тут, в темноте, в месте сердца, вспыхнула – искорка... с бешеной быстротой превратилась в багрово набухнувший шар; шар – ширился, ширился, ширился; и шар лопнул: лопнуло все... – Паршивенький господин с бородавкой у носа остановился всего в двух шагах от него перед старым забором – за естественною нуждою; лицо повернул к Аблеухову:
– «Верно, с бала?»
– «Да, с бала...»
– «Да и что ж тут такого: быть на балу еще не есть преступление».
– «Я уж знаю...»
– «Вот как?»
– «У вас под шинелью виднеется кусок домино».
– «Ну да!»
– «И вчера он виднелся...»
– «Как?»
– «У Зимней Канавки...»
– «Милостивый государь?»
– «Полноте: вы и есть домино?»
– «То есть, какое такое?»
– «Да – то
– «Не понимаю вас: подходить к неизвестному человеку...»
– «И вовсе не к неизвестному: вы – Николай Аполлонович: и еще вы –
Господинчик не унимался: .
«Я батюшку вашего знаю: только что с ним беседовал».
– «О, верьте», – заволновался Николай Аполлонович, – «все какие-то поганые слухи...»
Но, окончив естественную нужду, господин застегнул пальтецо, фамильярно мигнул:
– «Вам куда?»
– «На Васильевский», – брякнул неправду Николай Аполлонович.
– «И мне на Васильевский».
– «То есть – на Набережную...»
– «Видно, вы сами не знаете, куда следует вам: – и по этому случаю – забежим в ресторанчик».
ПОПУТЧИК
Аполлон Аполлонович Аблеухов, в сером пальто и в высоком черном цилиндре, испуганно выскочил в подъездную дверь.
Кто-то выкрикнул его имя: _ черное очертанье кареты тут вдвинулось в круг фонаря, подставляя свой герб (единорог, прободающий рыцаря) ; Аполлон Аполлонович только что собрался прыгнуть в карету и улететь вместе с нею в туман, как подъездная дверь распахнулась; паршивенький господинчик, открывший правдивую истину, показался на улице, затрусил прочь налево.
Аполлон Аполлонович опустил тогда ногу и прикоснулся перчаткою к борту цилиндра; он дал приказ кучеру: возвращаться домой без него; и такого поступка история его жизни не знала уже лет пятнадцать: недоуменно моргая, прижав руку к сердцу, он побежал за спиной господинчика; стал размахивать ручкою.
Сообщая ту черточку в поведении недавно почившей особы единственно во внимание к собирателям материалов его биографии, о которой недавно писали в газетах.
Ветер сбил с него черный цилиндр; Аполлон Аполлонович сел на карачки над лужею для извлечения цилиндра; вдогонку спине закричал:
– «Мм... Послушайте!..»
Спина не внимала.
– «Остановитесь же...»
Повернула там голову; и, узнавши сенатора, побежала навстречу (спина не бежала навстречу, а обладатель спины – господин с бородавкою); изумился, принялся вылавливать из лужи цилиндр.
– «Ваше высокопревосходительство!.. Аполлон Аполлонович! Какими судьбами?.. Вот-с, извольте же-с». (С этими словами паршивенький господинчик вручил именитому мужу цилиндр, вытертый рукавом пальто.)
– «А ваша карета?..»
Аполлон Аполлонович прервал:
– «Ночной воздух полезен мне...»
Оба направились в одну сторону.
Аполлон Аполлонович поднял глаза на попутчика: проморгал и сказал – сказал с замешательством:
– «Я... знаешь-тили» (Аполлон Аполлонович ошибся в окончании слова)...
– «Знаете ли... хотел иметь адрес ваш, Павел Павлович...»
– «Яковлевич!..»
– «Павел Яковлевич: у меня плохая память на имела...»
Аполлон Аполлонович, расстегнувши пальто, достал записную книжечку, переплетенную в кожу: стали под фонарем.
– «Адрес мой – переменчивый: чаще всего на Васильевском, восемнадцатая линия, дом 17. Сапожный мастер, Бессмертный. Участковому писарю Воронкову».
Аполлон Аполлонович приподнял надбровные дуги: изумление изобразили черты:
– «Но почему, – начал он, – почему...»
– «Моя фамилия Воронков, тогда как я есть Морковин?»
– «Моя настоящая квартира на Невском...»
Аполлон Аполлонович подумал: «Что поделаешь: существование подобных фигур в переходное время, в пределах законности – необходимость, печальная; и все же – необходимость».
– «Я, ваше высокопревосходительство, в настоящее время, как видите, занимаюсь все розыском».
– «Да, вы правы...»
– «Подготовляется преступление государственной важности... Осторожней: лужица... Преступление...»
– «Так-с...»
– «В скором времени обнаружится... Вот сухое место-с: позвольте мне руку...»
Аполлон Аполлонович переходил площадь: проснулись боязни пространства; и он жался теперь к господинчику.
Он старался бодриться, к нему прикоснулась рука ледяная; взяла его за руку; и – повела мимо луж: и он шел, шел и шел: за ледяною рукою; пространства летели навстречу. С уважением Аполлон Аполлонович бросил взгляд на охранителя существующего порядка:
– «Подготовляется террористический акт?»
– «Должен пасть один высокий сановник...»
Аполлон Аполлонович получил угрожающее письмо; в письме извещался он, что в случае принятия им поста в него бросят бомбу; Аполлон Аполлонович презирал подметные письма; письмо разорвал он; пост – принял.
– «Извините, пожалуйста: в кого же они теперь метят?»
Произошло нечто странное; все предметы вокруг вдруг принизились, просырели, казалися ближе, чем следует; господин же Морковин казался старинным, каким-то знакомым; усмешечка прошлась по губам:
– «Как в кого? В вас, ваше высокопревосходительство, в вас!»
Аполлон Аполлонович реально представить не мог, что вот эта перчаткою стянутая рука, эти ноги, усталое (верьте мне!) сердце под влиянием расширения газов какой-то там бомбы...
– «Как так?»
– «Да никак-с: очень просто...»
Просто? Аполлон Аполлонович поверить не мог: задорно пофыркал в две бачки – (и бачки!) и выпятил губы (губ – тоже не будет); потом он осунулся, голову опустил и глядел, как у ног его выбилась грязная тротуарная струечка. Все кругом лепетало, шептало: старушечий шепот осеннего времени.
Господину Морковину стало жаль это старое, в грязь осевшее очертание; и он прибавил:
– «Вы, ваше превосходительство, не пугайтесь; приняты строжайшие меры; мы не допустим: опасности нет ни сегодня, ни завтра... Повремените...»
Морковин подумал невольно: «Как же он постарел: да он просто развалина...» Аполлон Аполлонович повернул безбородый свой лик, улыбнулся печально.
Аполлон Аполлонович через минуту оправился, помолодел, и пошел, точно палка прямой, в грязноватую муть, напоминая профилем: мумию фараона.
Ночь чернела, синела и лиловела, переходя в красноватые фонарные пятна; высились: подворотни, стены, заборы, дворы; и от них исходили какие-то лепеты.
У! как сыро, как мозгло!
ПОЛОУМНЫЙ
Мы оставили Сергея Сергеевича в тот момент, когда белый, как смерть, с ироническою улыбкою бросился он в переднюю за непослушной женой; щелкнув шпорами, -стал перед дверью; когда Софья Петровна Лихутина мимо носа сердитого подпоручика прошуршала задорно, Сергей Сергеевич с резвыми жестами стал повсюду ходить и повсюду гасить электричество.
Почему же он обнаружил свое состояние духа так именно? Ну, какая же связь между всей
«Щелк» – щелкали выключатели, погружая во тьму человека и жесты его. Это, может быть, – подпоручик Лихутин?
Войдите в ужасное положение: отразиться так пакостно в зеркалах, оттого что какое-то домино нанесло оскорбление его честному дому, – и оттого что, согласно им данному слову, обязан теперь и жену не пускать на порог. Нет, войдите в ужасное положение: это все-таки – подпоручик Лихутин: он – самый.
«Щелк-щелк», – выключатель защелкал в соседней уж комнате. Так же прощелкал и в третьей. Встревожилась Маврушка; и из кухни прошлепала в комнаты.
Проворчала:
– «Что же такое?»
Из тьмы раздался тогда кашель поручика:
– «Уходите отсюда...»
– «Как так это, барин...»
– «Идите из комнат».
– «Не стелены постели...»
– «Вон, вон!..»
Едва вышла из комнаты, как в кухню пожаловал:
– «Убирайтеся вовсе из дому...»
– «Да как же мне, барин...»
– «Скорей убирайтесь...»
– «Куда мне деваться?»
– «Чтобы ноги вашей...»
– «Барин!..»
– «Вон, вон...»
Шубу в руки, да – в дверь: и заплакала Маврушка; испугалась как – ужасти: барин-то – не того: ей бы к дворнику, да в полицейский участок, а сдуру – к подруге.
Участь ужасная – обыденного, нормального человека, которого жизнь разрешается словарями понятливых слов и поступков: поступки влекут его, как суденышко, оснащенное и словами, и жестами; если суденышко налетит на подводную скалу невнятности, то оно разбивается: тонет пловец... При малейшем житейском толчке обыденные люди лишаются разума; нет, безумцы не ведают стольких опасностей: их мозги утонченнее. Для простодушного мозга непроницаемо то, что мозги проницают: ему остается разбиться; и он – разбивается.
Со вчерашнего вечера подпоручик Лихутин неожиданно ощутил у себя в голове нестерпимую боль, точно громко ударился лбом о железную стену; пока он стоял перед стеною, он видел: стена – не стена: проницаема; там, за стеною – какой-то невидимый свет; и – законы бессмыслиц... Лихутин мычал и качал головой, ощущая острейшую мозговую работу, а по стене ползли отсветы; пароходик по Мойке бежал, оставляя на водах светлейшие полосы.
И Лихутин мычал; он мотнул головою: запутались мысли, запуталось все. Начал мысли с анализа поступков жены; кончил тем, что поймал на какой-то бессмысленной дряни себя: может, твердая плоскость непроницаема для него одного; и – зеркальные отражения комнат суть подлинно комнаты; в подлинных комнатах проживает семейство заезжего офицера; закрыть зеркала: неудобно исследовать взглядами поведенье замужнего офицера: с женой; можно встретить там дрянь; и на этой дряни Лихутин ловил сам себя; и нашел, что он сам занимается дрянью; Лихутин закрыл электричество: зеркала бы его отвлекали ужасно; а – нужно усилие воли, чтобы в себе отыскать что-нибудь.
Подпоручик Лихутин стал всюду ходить; и – гасить электричество.
Как теперь ему быть? со вчерашнего вечера
Зачиркал вновь спичкою: рыжие светочи озарили лицо сумасшедшего; оно припало к часам: протекли два часа, иль – сто двадцать минут: высчитать и секунды?
– «Шестидесятью два есть сто двадцать!»
Схватился за голову:
– «Один в уме; ум – разбился о зеркало... Надо вынести зеркала! Двенадцать, – один в уме – да: кусочек стекла... Нет, одна прожитая секунда...» Запутались мысли: Лихутин расхаживал в тьме: ту-ту-ту, – раздавался шаг:
– Дважды шесть есть двенадцать; один в уме: одиножды шесть – шесть; плюс единица; еще – два нуля: итого – семь тысяч двести секундищ.
Восторжествовавши над сложною мозгового работою, Сергей Сергеевич совсем неуместно уже обнаруживал свой восторг. Вдруг он вспомнил: лицо омрачилось:
– «Семь тысяч двести секунд, как она убежала: двести тысяч секунд – нет, все кончено!»
По истечении двухсот секунд, двести первая ведь – открывала начало свершения данного офицерского слова: семь тысяч двести секунд пережил, – как семь тысяч лет. Сергею Сергеевичу показалось, что он от создания мира уже заключен в этот мрак с нестерпимою головною болью: с самопроизвольно ожившею мыслью. Лихутин возился в углу; стал креститься; из ящика спешно выбросил он веревку; ее размотал; из нее сделал петлю: она не хотела затягиваться: отчаявшись, побежал в кабинетик; веревка поволочилась за ним.
Что же делал он – сдерживал слово! Помилуйте, – нет. Просто вынул он мыло из мыльницы; сел на корточки; мылил веревку над тазиком; его действия приняли фантастический отпечаток.
Судите же сами!
Взобрался на стол (со стола снял он скатерть); на стол же поставил он стул, взгромоздившись на стул, осторожно снял лампу; и бережно опустил себе под ноги; вместо лампы к крюку прикрепил очень скользкую от мыла веревку: перекрестился и – замер; и медленно на руках приподнял свою петлю.
Блестящая мысль осенила Сергея Сергеевича: надо было побриться и, кроме того: надо было исчислить количество терций и кварт.
С этой мыслью Лихутин прошествовал в кабинетик; при свете огарка стал брить волосатую шею (но у него была нежная кожа на шее; и – кожа покрылась прыщами) . Он выбрил себе подбородок и шею; по бритвою неожиданно отхватил себе ус: надо было добриться (взломают там двери, войдут и увидят его, одноусого, и... в таком положении).
И Сергей Сергеевич обрился: и выглядел он теперь совершеннейшим идиотом.
Ну, ну – медлить нечего: кончено – на лице совершенная бритость. Как раз в ту минуту в передней раздался звонок: он с досадою бросил бритву, себе перепачкал все пальцы в волосинках: как же быть, как же быть? Лишь минуту он думал, что надо бы – отложить предприятие: времени терять невозможно – звонок; тут он вспрыгнул на стол и снял с крюка петлю; веревка не слушалась в мыльных пальцах; слез: крался в переднюю; и заметил, что медленно начинала истаивать в комнатах черно-синяя мгла; просерело; в сереющей мгле обозначались ясно предметы: поставленный стулик на стол и лежащая лампа; и – мокрая петля.
В передней припал он к двери; он – замер; волнение породило ту степень забывчивости, при которой немыслимо никакое уж дело: он не заметил, как сильно сопит; из-за двери услышал он женины окрики; он закричал благим матом; и, закричав, он увидел, что все погибает; он бросился приводить в исполнение замысел; вспрыгнул на стол, протянул свою шею; на шее, покрытой прыщами, затягивал быстро веревку, подсунув два пальца между веревкой и шеей:
После этого он для чего-то вскричал.
И – оттолкнул стол ногою; и – стол откатился на медных колесиках (звук тот услышала Софья Петровна).
ЧТО ЖЕ ДАЛЕЕ?
Мгновение... –
Сергей Сергеич задрыгал ногами; он явственно видел фонарные отблески на отдушнике печки; и явственно слышал он стук и царапанье в дверь; что-то с силою к подбородку прижало два пальца; их вырвать не мог; показалось, что он задыхается; слышался треск (в голове, верно, лопнули жилы); и – полетела известка; Сергей Сергеич грохнулся (в смерть); и Сергей Сергеич из смерти восстал, получив здоровенный пинок; он – очнулся; и понял, что не восстал, а воссел на какой-то предметности (на полу), ощущая острейшую боль в позвоночнике, да ощущая свои прищемленные пальцы – между веревкой и горлом: Лихутин стал рвать их; и петля – расширилась.
Понял он, что едва не повесился: недоповесился. И – вздохнул облегченно.
Чернильная мгла просерела; и стала: мглой серой; Лиху тин увидел: сидит он бессмысленно; стены сереют японскими пейзажами, незаметно сливаяся с ночью; а потолок терял кружево фонаря.
Вздох у Сергея Сергеича вырвался безотчетно, как безотчетны движенья утопленников перед погружением. Лихутин (не улыбайтесь!) серьезно намеревался покончить все счеты с землею; намеренье это осуществил бы; но вот – ведь: гнилой потолок (в том вините строителя дома); так вздох облегчения относился не к личности, а к плотской оболочке: она, оболочка, сидела на корточках и внимала всему; дух Сергея Сергеича обнаруживал хладнокровие.
Прояснилися мысли; и встала дилемма: как быть? Револьверы – запрятаны; их отыскивать долго... А бритвою – ууу! Начинать с бритвой опыты? Нет: растянуться здесь, предоставив судьбе все дальнейшее; в этом случае Софья Петровна немедленно бросится к дворнику; протелефонят полиции, соберется толпа; под напором сломаются двери; нагрянут сюда; и увидят, что он, подпоручик Лихутин, с веревкой на шее расселся на корточках посреди штукатурки.
Нет, нет! Никогда не дойдет до того: честь мундира дороже ему его честного слова. И – остается: скорей примириться с женою и дать объяснение штукатурке.
Он кинул веревку свою под диван и позорнейшим образом побежал к выходной двери.
С сопением открыл, нерешительно став на пороге, стыдяся (
В комнату никто не вбежал: тем не менее там – стояли (он видел); влетела – Лихутина; и – разрыдалась.
– «Что ж это? И – почему темнота?»
А Сергей Сергеевич тупился.
– «Почему тут возня?»
Но Сергей Сергеевич пожал холодные пальчики ей в темноте.
– «Почему – руки в мыле?.. Сергей Сергеевич, что это?»
– «Видишь ли, Сонюшка...»
– «Почему вы хрипите?..»
– «Я... Я... простоял перед форточкой (неосторожно, конечно)... так вот: и – охрип...»
Он замялся.
– «Не надо, не надо, – почти прокричал, дернув руку жены, собиравшейся открыть электричество, – не сюда, не сейчас – в эту комнату».
Потащил в кабинетик ее.
В кабинетике явственно выделялись предметы; и проступало в окошке рассветное небо; и Софья Петровна увидела перед собою... – неописуемо: увидела синее лицо неизвестного идиота.
– «Что сделали? Вы обрились? Вы просто какой-то дурак!..»
– «Видишь, Сонюшка, – прохрипел его шепот, – тут есть обстоятельство...»
Но не слушала: с безотчетной тревогою бросилась осматривать комнаты.
– «Ты найдешь там у нас беспорядок...»
– «Потолок там растрескался...»
Софья Петровна не слушала и стояла перед грудою кусков штукатурки, между которыми чернел на пол грянувший крюк; стол был круто отодвинут, а из-под мягкой кушетки торчала и петля; Лихутина горбилась.
Вдруг все просветилось; вошла розоватая рябь облачков, будто сеть перламутринок; голубело чуть-чуть; все наполнилось робостью, удивленным вопросом: «Да как же? А как же?» На окнах, на шпицах наметился трепет; на шпицах рубинился блеск. Над душою прошлись голоса: просветилось; упал из окна бледно-розовый, бледно-ковровый косяк от луча.
Протянула руку к веревке: поцеловала веревку, тихонько заплакала: образ далекого и вновь возвращенного детства над ней поднимался, поднялся; и – встал за спиной; повернулась назад, увидала: стоял ее муж, долговязый, печальный и бритый:
– «Прости меня, Сонюшка!»
И припала к ногам его: плакала:
– «Бедный: любимый мой!..»
Что они меж собою шептали, бог ведает: это – осталось меж ними.
– «Ну, ну – бог простит...»
Розоватое, клочковатое облачко от трубы пробежавшего пароходика протянулось по Мойке; от пароходной кормы проблистала зеленая полоса, ударяясь о берег и отливая янтарным; она, отлетая от берега, разбивалась о полосу, бьющую ей навстречу; и полосы начинали блистать роем кольчатых змей; в рой – въехала лодка; все змеи разрезались на алмазные струнки; путались в серебряную канитель, чтоб в поверхности водной качнуться звездами; волнение вод успокоилось; и погасли все звезды. От берега встало зеленое, белоколонное здание: кусок Ренессанса.
ОБЫВАТЕЛЬ
Из тьмы выступал высоковерхий бок дома, из тяжестей; два египтянина на руках возносили балкон. Мимо дома и миллионнопудовых громад – Аполлон Аполлонович шел, преодолевая все тяжести: перед ним вычерчивался гниловатый заборчик.
Тут распахнулась дверь; повалил белый пар, раздалась руготня, дребезжание балалайки и голос: прислушался к голосу.
Голос пел:
Духом мы к Тебе, Отец.
В небо мыслию парим
И за пищу от сердец
Мы тебя благодарим.
Дверь захлопнулась. В обывателе Аполлон Аполлонович подозревал что-то мелкое, пролетающее за стеклами каретных отверстий; теперь все пространства сместились: и жизнь обывателя обставала его подворотнями; сам обыватель предстал перед ним голосом.
Вот – какой обыватель? К обывателю Аполлон Аполлонович восчувствовал интерес, и был миг, когда оп хотел постучаться, чтобы найти обывателя; вспомнил, что обыватель его собирается... набок съехал цилиндр, опустилися изможденные плечи: –
– Да, да: они разорвали на части: и – не его, а другого, посланного судьбой; Аполлон Аполлонович вспомнил седые усы, зеленоватую глубину устремленных очей; оба они когда-то склонялись над картой Империи (это было ровно за день до того, как)... Они разорвали
Аполлон Аполлонович Аблеухов поправил цилиндр, проходя в гниловатую жизнь обывателя, в сети из стен, подворотен, заборов, наполненных слизью, в сплошное дрянное, гнилое, пустое и общее отхожее место; ему показалось теперь, что его ненавидит и этот вот гниловатый заборчик; они – ненавидели. Кто
«От финских хладных скал до пламенной Колхиды*118...»
Что? Ненавидели?.. Нет – простиралась Россия. Его?.. Собираются... собираются... Нет: брр – брр... Праздная мозговая игра.
Пора, мой друг, пора!.. Покоя сердце просит*119.
Бегут за днями дни. И каждый день уносит
Частицу бытия. А мы с тобой вдвоем,
Располагаем жить. А там: глядь и умрем...
С кем же располагает он жить? С сыном? Сын – негодяй. С обывателем? Обыватель его собирается... Некогда располагал прожить жизнь с Анной Петровной, по окончании государственной службы совсем перебраться на дачку в Финляндию, а ведь вот – Анна Петровна:
– «Уехала, знаете ли: ничего не поделаешь...»
Аполлон Аполлонович понял, что у него нет спутника жизни (до этой минуты он как-то об этом не удосужился вспомнить); и смерть на посту будет все-таки украшением жизни. Ему стало как-то по-детски печально и тихо, – уютно. И – слышался шелест лужицы, точно чья-то мольба: о том, чего не было, но что быть бы могло.
Медленно начинала истаивать ночь душившая мгла: просерела и стала мглой серой: потом – чуть сереющей; рыжие фонари, вокруг себя бросавшие светы, иссякли; они стали тусклыми точками, удивленно глядевшими в сероватый туман; казалося: серая вереница из линий и стен с чуть лежащими плоскостями теней и с провалами оконных отверстий – воздушное кружево, состоящее из узоров тончайшей работы.
Навстречу бежал очень бедно одетый подросток: девушка лет пятнадцати; за нею в тумане шло темное очертанье мужчины: пристало к подростку; но Аполлон Аполлонович считал себя рыцарем; снял он цилиндр:
– «Милостивая государыня, осмелюсь ли я предложить вам до дому руку: молодым особам не безопасно являться на улице».
Подросток увидел: черная фигурка почтительно приподняла свой цилиндр.
Они – шли в безмолвии; все казалось и мокрым и старым, ушедшим в века; все это и прежде Аполлон Аполлонович видывал издали. А теперь – вот оно: подворотни, домики, стены, боязнью прижатый подросток, для которого он не сенатор, а так себе – добрый старик.
Шли до зеленого домика с гнилой подворотней; сенатор приподнял цилиндр, его старческий рот искривился так жалобно; зажевали мертвые губы; откуда-то издали раздалось – будто пенье смычка: пение петербургского петела.
Где-то сбоку на небе брызнули пламена; вдруг все просветилось: вошла в пламена розоватая рябь облачков, будто сеть перламутринок. Отяжелела и очертилася вереница линий и стен; проступили какие-то тяжести – и уступы и выступы; подъезды, кариатиды, карнизы кирпичных балконов.
Кружево обернулось утренним Петербургом: стояли песочного цвета дома о пяти этажах; рыже-красный дворец зазарел.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ,
в которой повествуется о господинчике с бородавкой у носа и о сардиннице ужасного содержания.|
Блеснет заутра луч денницы. И заиграет яркий день, А я, быть может, уж гробницы Сойду в таинственную сень.*120 |
ГОСПОДИНЧИК
Николай Аполлонович вдруг обернулся: метнулся в лицо господинчику:
– «С кем имею честь?..»
– «Павел Яковлевич Морковин...»
Лицо ничего не сказало ему: котелок, трость, пальто, бороденка и нос.
– «Вы изволите на себя напустить этот тон равнодушия...»
Вспыхнуло светлое яблоко: второе и третье; и – линия электрических яблок уже обозначила Невский проспект, где всю ночь ресторанчики кажут кровавые вывески, под которыми шныряют пернатые дамы, – среди цилиндров, околышей, котелков.
Николай Аполлонович знал: обстоятельства встречи с загадочным Павлом Яковлевичем не позволили оборвать эту встречу с достоинством для себя: надо было выпытать, что сказано точно меж ним и отцом; и – медлил прощаться.
Открылась Нева; каменный перегиб Зимней Канавки; тут бросились натиски ветра; а за Невой встали абрисы островов и домов; и – бросали в туманы янтарные очи; казалось, что – плачут.
Вот площадь: на площади возвышалась скала; конь кидался копытом; тень крыла Всадника: Всадника не было; а на Неве – стояла какая-то рыболовная шхуна.
Они шли по мосту.
Впереди них шла пара: сорокапятилетний моряк, шапка с наушниками; рыжая с проседью борода; сосед – . какой-то гигант, с темно-зеленой поярковой шляпой, черноволосый и с маленьким носиком, с маленькими усами.*121
– «Вот сюда, Николай Аполлонович: вот – как раз, вот – сюда!..»
– «Да позвольте же...»
– «Э, да ну вас – скучаете?»
– «Просто хочется спать...»
Николай Аполлонович чуть-чуть передернул плечами; с брезгливостью открыл ресторанную дверь...
Густоватый, белеющий пар блинного запаха, смешанный с мокротою; обжогом в ладони упал номерок.
– «Ведь все знают меня... Александр Иванович, Бутищенко, Шишиганов, Пенн...»
Николай Аполлонович чувствовал любопытство от трех обстоятельств; во-первых: подчеркнуто знакомство с отцом (это что-нибудь значило); во-вторых: незнакомец обмолвился об Александре Ивановиче; наконец: незнакомец привел ряд фамилий (Бутищенко, Пепп), так знакомо звучащих...
– «А интересная-с», – подтолкнул Павел Яковлевич на проститутку с турецкою папироской в зубах...
– «Вы как насчет женщин?..»
– «?»
– «Не буду, не буду!»
Кругом раздавалося:
– «Кто?»
– «Иван!..»
– «Иван Иваныч!..»
– «Иван Иваныч Иванов...»
– «Все враки...»
– «Иван!..»
– «Иван Иваныч!..»
– «Ивван Ивваныч Ивванов – свинья!»
Там машина – вдруг рявкнула: под машиной Иван Иваныч Иванов, махая бутылкою, встал.
Как попал он в такое поганое место, в минуты, – когда?..
Ожесточенно, мучительно в дикой машине, взрывая и бацая бубнами, страшная старина, как на нас из глубин набегающий вулканический взрыв, – звуком крепла и плакала в ресторанное зало: «Ууй-мии-теесь ваалнеения страа-аа-сти...»*122
– «Уу-снии безнаа-дее-жнаа-ее сее-ее-рдцее...»
– «Ха-ха-ха-ха-ха!..»
РЮМКУ ВОДОЧКИ!
– «Признайтесь-ка... Эй, две рюмочки водки! – признайтесь...» – выкрикивал Павел Яковлевич; он – оплыл, ожирел; желтоватое личико расплылось: здесь – мешочечком; здесь – сосочком...
– «Я бьюсь об заклад, что для вас представляю загадку».
Вон – столик: за столиком – сорокапятилетний моряк (и как будто – голландец).
– «С пикончиком?..»
А рядом с голландцем, за столиком – опустилась громада – из камня.
– «Ну-с, молодой человек?»
– «Что такое?»
– «Что скажете о моем поведенье на улице?»
– «Ах, да что вы об улице?»
– «По второй?»
– «По второй...»
Павел Яковлевич озабоченно копошился, стараясь дрожащею вилкой попасть в склизкий рыжичек:
– «Не правда ли, было там – странно?»
– «Где странно?»
– «А там – под забором... Хозяин, сардинок – не надо».
За столиками бражничал ублюдочный род: ни люди, ни тени; все то – жители островов; а жители островов – род ублюдочный, странный: ни люди, ни тени.
Павел Яковлевич – оплывал, ожиревал: здесь – мешком; здесь – сосочком; здесь – белою бородавочного:
– «По третьей?»
– «По третьей...»
– «Ну, так что же вы скажете о разговоре – под подворотней?»
– «Про домино?»
– «Разумеется!..»
– «Я скажу, что – сказал...»
От пахнущих губ Николай Аполлонович хотел отвернуться, но – перемог; его чмокнули в губы; и губы его – растянулись в улыбке, натянуто прыгая: задрожали – (так прыгают лапки терзаемых лягушат, когда лапок коснутся концы электрических проволок).
– «Ну вот: так-то лучше; не думайте ничего: домино – так себе. Домино просто выдумал я для знакомства...»
– «Виноват, вы закапались сардиночным жиром», – перебил Николай Аполлонович.
– «Согласитесь же: дикая мысль, что вы есть домино... Я себе говорю: эй, Павлуша, да, батенька мой, – так себе: озарение – под забором, при, так сказать, необходимой потребности человеческой... Просто-напросто – предлог для знакомства!»
Они отошли от буфета, к гаганящим столикам:
– «Человек: чистую скатерть...»
– «И водки...»
Уселись: и – положили локти: на стол. Николай Аполлонович ощутил опьянение (от усталости); краски и звуки – ударились: в мозг.
– «Да-да-да: курьезнейший пунктик..«Прекрасно: мне почки с мадерою, а вам... тоже почек?»
– «Что же за пункт?»
– «Две порции: почек... О пункте? Так вот-с – признаюсь: узы-то – нас связавшие узы...»
– «?»
– «Узы родства».
– «?»
– «Узы крови...»
Им подали почки.
– «Не думайте, чтобы узы те... – Соли, перцу, горчицы! – пролитие крови*123: да что вы дрожите? Ишь вспыхнули, занялись – молодая девица! Вот перец-то».
Николай Аполлонович так же, как Аполлон Аполлонович – переперчивал.
– «Что вы сказали?»
– «Вот перец...»
– «О крови...»
– «Об узах? Под кровными узами разумею я узы родства».
Павел Яковлевич подвязался салфеткою, копошился в салфетке, как трупный червяк.
– «Извините меня, я, должно быть, не понял: скажите же, что разумеете вы под кровным родством?»
– «Я, Николай Аполлонович, – прихожусь ведь вам братом...»
Николай Аполлонович даже привстал – с задрожавшими нервно ноздрями, из шапки волос: волосы были какого-то туманного цвета.
– «Разумеется, незаконным: я – плод любви родителя вашего... с белошвейкою...»
Аблеуховы дорожили всегда чистотой своей крови; и дорожил кровью – он.
– «Папаша ваш, стало быть, имел в своей юности – интересный романчик...»
Николай Аполлонович думал – Морковин продолжит словами: «Который окончился моим появленьем...»
– «Который окончился моим появленьем на свет».
Это было – когда-то.
– «По этому случаю разопьем – по одной».
Ожесточенно, мучительно, в дикой машине взрывая и бацая бубнами, страшная старина звуком крепла и – разрасталась, и – плакала: в ресторанное зало.
– «Родитель мой...»
– «Наш –
– «Если хотите, наш – общий».
– «А плечико? Как передернулось?!» – перебил Павел Яковлевич. – «Передернулось – отчего?»
– «Отчего?»
– «Оттого, что для вас, Николай Аполлонович, родство – оскорбительно... И вы, знаете, – похрабрели».
– «С какой стати трусить?»
– «Ха-ха! – Похрабрели вы оттого, что, по вашему мнению... – почек?..»
– «Благодарствуйте...»
– «Соусу?.. Вы меня извините, что я применяю к вам психологический метод: я щупаю вас, мой родной».
Николай Аполлонович – прищурил глаза; пальцы – пробарабанили: по столу.
– «Вот то же о нашем родстве; и это – нащупыванье: как отнесетесь... Должен вас и оправдать, и – огорчить-c... Остается заметить: мы – братья... при разных родителях».
– «?..»
– «Про Аполлона Аполлоновича я пошутил: никакого романчика не было; вообще – хе-хе-хе – никакого романчика!.. Исключительно нравственный человек!!»
– «Почему же мы – братья?»
– «По убеждению...»
– «Как вы можете мои убеждения: знать?»
– «Вы – убежденнейший террорист, Николай Аполлонович».
– «Террорист?»
– «Террорист и – завзятый: изволите видеть, фамилии я закинул неспроста: Бутищенки, Шшпиганова, Пеппа... Здесь – тонкий намек, понимайте, как знаете... Александр Иванович Дудкин, Неуловимый!.. А? А?.. Поняли? Поняли? Не смущайтесь же: теоретик наш – бестия: ууу, – расцелую...»
– «Ха-ха», – откинулся Николай Аполлонович: на спинку, – «ха-ха...»
– «И-хи-хи», – подхватил Павел Яковлевич.
– «Ха-ха», – продолжал Николай Аполлонович.
– «И-хи-хи», – подхихикивал Павел Яковлевич.
Громада с соседнего столика разгневанно повернулась: глядела – внимательно.
– «Я вам вот что скажу», – совершенно серьезно сказал Николай Аполлонович, хохот осилив (смеялся – насильно), – «вы ошибаетесь: к террору у меня отношение отрицательное».
– «Помилуйте, Николай Аполлонович! Да я же все знаю: об узелочке, об Александре Иваныче, о Софье Петровне...»
– «Знаю же – по служебному долгу...»
– «Вы служите?»
– «Да: в охранке...»
Я ГУБЛЮ БЕЗ ВОЗВРАТА
На мгновение: оба – застыли; из-за края стола Павел Яковлевич зацепился – за пуговицу: Николай Аполлоновича; Николай Аполлонович с виноватой улыбкою вытащил переплетенную книжечку, оказавшуюся – записной.
– «Пожалуйте, книжечку – мне... на просмотр!..» Николай Аполлонович – не противился: пытка его перешла все границы.
Павел Яковлевич, наклонившись над книжечкой, выставил голову, которая показалася прикрепленной: не к шее, а к двум кистям рук; на мгновение – стал он чудовищем: заморгавшая глазками голова, с волосами из псиной, нечесаной шерсти, окрысившись смехом, – забегала над столом на десяти – своих пальцах: по листикам книжечки, вид имея – десятиногого паука.
Павел Яковлевич, видно, хотел напугать видом сыска (о, милая шуточка!); крысясь от хохота, книжечку бросил – обратно.
– «Да зачем я«е, помилуйте: такая покорность... Я, кажется, не собираюсь допрашивать... Не пугайтесь: в охранное ж отделение я – приставлен: от партии... И напрасно вы растревожились».
– «Вы – смеетесь?»
– «Ни капли... Будь я полицейским, вы были бы арестованы, потому что ваш жест был достоин внимания: вы – схватились за грудь; там у вас – документ?.. Этот жест вас и выдал... Согласны?»
– «Пожалуй...»
– «Позволю заметить: вы сделали промах; вы вынули вовсе невинную книжечку – в то еще время, когда никто эту книжечку не просил у вас; вынули – просто отвлечь внимание от другого чего-нибудь; цели вы не достигли; не отвлекли: привлекли; вы заставили думать: какой-нибудь эдакий документ – все ж остался в кармане... Ах, вы легкомысленны... Посмотрите же на страничку: открыли – любовный секретик: тут вот, – полюбуйтесь...»
– «К чему эта пытка? Ну если действительно вы и есть тот, за кого выдаете, – эй, человек, получите! – то поведение ваше, ужимочки – недостойны!»
В парах повалившего чада стоял Николай Аполлонович, разорвавший без смеха Свой рот, в ореоле светлейших волос; как оскаленный зверь, он презрительно обернулся; и – бросил полтинник: на столик.
Уже опустели соседние столики; вдруг погасло и электричество; рыжий свет свечки затеплился; стены – истаяли; виделся край размалеванной стенки; оттуда, из дали, на парусах, к Петербургу – летел уж Летучий Голландец (у Николая Аполлоновича крушилася голова от семи им осиленных рюмок); от столика поднялся: сорокапятилетний моряк; он – скрылся: во мраке.
Морковин, оправивши свой сюртучок, посмотрел: на – Николая Аполлоновича: с задумчивой нежностью; с минуту они не проронили – ни слова.
Наконец: Павел Яковлевич – произнес:
. – «Полноте: мне так же трудно, как вам...»
– «Что таиться, товарищ?..»
– «?»
– «Ну, да: условимся о дне обещания... Николай Аполлонович, вы чудак, каких мало: неужели же вы могли хоть минуту подумать, чтобы я шлялся за вами: по улицам...»
Потом он прибавил с достоинством: «Партия, Николай Аполлонович, ожидает: ответа».
Николай Аполлонович спускался но лестнице; конец ее ушел – в темноту: внизу же – у двери – стояли:
А когда проходил, то по обе стороны от себя он почувствовал: взгляд – наблюдателя: и один был гигант, освещенный лучом фонаря, – стал у двери он медной громадой: на Аблеухова глянуло: металлическое лицо, горящее фосфором; зеленая многосотпудовая рука – погрозила:
– «Кто это?»
– «Кто губит: нас всех – без возврата...»
Хлопнула ресторанная дверь.
Опять побежал котелок: рядом с ним – но стене.
– «Ну, а если я отклоню?»
– «Я – арестую...»
– «Меня? Арестуете?»
– «Не забывайте, что я...»
– «Конспиратор?»
– «Чиновник охранного отделения!»
– «Что же скажет вам партия?»
– «Партия – оправдает: пользуясь положением в охране, я отомщу вам за партию...»
Вот из самого клочковатого облака – стали падать полосы: хлопотливых дождей – стрекотать, пришепетывать, закрутивши по булькнувшим лужам холодные пузыри.
– «Николай Аполлонович – шутки в сторону: я – очень серьезен; я – должен заметить: сомнение, нерешительность ваша – меня: убивают; надо было взвесить все шансы, заранее... Вы могли отказаться (два месяца). Этого вы не позаботились сделать; у вас – три пути; выбирайте: арест, самоубийство, убийство. Вы теперь – меня поняли?..»
Петербург, Петербург!
Осаждаясь туманом, меня ты преследовал: мозговою игрою. Мучитель жестокосердный! И – непокойный призрак: года на меня нападал; бегал я на ужасных проспектах, чтоб с разбега влететь вот на этот блистающий мост...
О, зеленые, кишащие бациллами, воды! Помню я роковое мгновение: чрез сырые перила сентябрьскою ночью и я – перегнулся*124...
Николай Аполлонович – обернулся: не увидел он за собой – ничего, никого: над сырыми, сырыми перилами, над кишащей бациллами зеленоватой водою его охватили плаксиво одни сквозняки; здесь, на этом вот месте, за два с половиною месяца перед тем, Николай Аполлонович дал: ужасное обещание!
Площадь – пустела; и поднимали свои этажи и Сенат, и Синод. Николай Аполлонович с любопытством поднял глаза на громадное очертание Всадника. Давеча показалось, что Всадника не было (тень покрывала); теперь яге: металлы лица – задвоились: улыбкою.
Тучи разорвались; и зеленым дымком распаявшейся ' меди курились под месяцем облака... На мгновенье – все вспыхнуло: воды, крыши, граниты; вспыхнуло – Всадниково лицо, меднолавровый венец; и – простертая повелительно: многосотпудовая рука; показалось – рука шевельнется, а металлические копыта, вот-вот, упадут на скалу; и – раздастся на весь Петербург:
– «Да, да, да...»
– «Это – я...»
– «Я – гублю: без возврата!..»
На мгновение: для Николая Аполлоновича озарилось вдруг все; да – он понял: он – должен.
С хохотом побежал он от Медного всадника*125:
– «Я знаю...»
– «Погиб без возврата...»
Вдали пролетел сноп огня: то придворная черная карета несла: ярко-красные фонари; призрачный абрис треуголки лакея и абрис шинельных крыльев летели с огнем – из тумана в туманы.
ГРИФФОНЧИКИ
...Не терять минуты! Надо же предпринять – что предпринять? Ведь не он ли сеял семя теорий: о безумии жалостей? Перед той молчаливою кучкою выражал свои мнения – о глухом отвращении к барским засохшим ушам; вплоть... до шеи... с подкожною: жилою...
Он нанял какого-то запоздалого Ваньку.
Адмиралтейство продвинуло великолепный свой бок: пророзовело; и – скрылося; за Невой стены старого здания бросили: ярко-морковный свой цвет; черно-белая солдатская будка – осталась налево; в шинели расхаживал павловский гренадер; перекинул он искристый штык.
Утро ясное и – горящее невскими искрами, претворило всю воду в пучину червонного золота, в которую с разлету ушла труба пароходика; вдруг – он увидел: сухая фигурочка на тротуаре торопит свой шаг, – та фигурочка, которая... в которой... которую: он узнал: Аполлон Аполлонович! Николай Аполлонович хотел извозчика задержать, чтобы дать время фигурке отдалиться настолько, чтоб... – было уж поздно: и голова повернулась – к извозчику. Николай Аполлонович, чтобы не быть вовсе узнанным, нос уткнул в свой бобер; виделись – воротник да фуражка.
У себя за спиной Аполлон Аполлонович Аблеухов услышал гременье пролетки; когда же извозчик уже поравнялся с сенатором, то сенатор увидел, как над сиденьем – скорчился уродливый юноша, неприятнейшим образом завернувшись в шинель; и когда этот юноша поглядел: на сенатора, нос уткнувши в шинель (виделись лишь глаза да фуражка), сенатора голова отлетела к стене.
Глаза неприятного юноши, увидавши его, стали шириться, шириться, шириться: полным ужаса взором, который преследовал: чаще и чаще; да: тем
Николай Аполлонович выскочил из пролетки и, косолапо запутавшись в полах шинели, старообразый, какой-то весь злой, побежал быстро-быстро к подъезду, переваливаясь по-утиному; и – захлопавши в воздухе шинельными крыльями – на фоне багровой зари.
Николай Аполлонович дернул звонок: о, скорей бы дверь открыл там Семеныч! А то – из тумана покажется: та сухая фигурочка (почему не в карете?); и на каждой из сторон тяжелого, домового крыльца – он увидел теперь: по разъятой пасти гриффона, розоватого от зари, и когтями державшего кольца для древков; а над гриффонами: изваялся на камне и герб Аблеуховых; герб изображал – длинноперого рыцаря: в завитках рококо; и – пронизанного единорогом; в Николае Аполлоновиче, будто рыба, скользнувшая по поверхности вод, – прошла мысль: Аполлон Аполлонович, проживающий за порогом той двери, и есть – прободаемый рыцарь; за этою мыслью – туманно скользнуло, не подымаясь к поверхности: родовой старый герб относился ко всем Аблеуховым; и он, Николай Аполлонович, так же был прободаем – но кем?
Мысленная галиматья продержалася лишь десятую долю секунды: и уж там, на панели – в тумане – увидел спешащую к дому фигурочку: подбегала стремительно! Аполлон Аполлонович Аблеухов напоминал смерть в цилиндре; Николай Аполлонович – бывают же шалые мысли – представил себе Аполлона Аполлоновича в момент исполнения супружеских отношений; и с новой силой почувствовал знакомую тошноту (так был он зачат).
Фигурочка приближалась. Николай Аполлонович, к своему позору, увидел, что: знакомое замешательство овладело им, и...
Николай Аполлонович соскочил со ступенек крыльца: переваливаясь по-утиному, он бежал неизбежно навстречу родителю, с избегающим взглядом:
– «Доброе утро, папаша!..»
Аполлон Аполлонович думал, что этот вот с виду застенчивый юноша – негодяй; но – Аполлон Аполлонович: конфузился мысли в присутствии сына:
– «Так-с, так-с: доброе утро... Да, вот, – подите же – встретились...»
На крыльце разорвали гриффончики: клювовидные пасти; а длинноперый и каменный рыцарь в сплошных завитках рококо – прободался; единорогом. Чем слепительней разлетались предвестия дня, тем отчетливей тяжелели: все выступы зданий; и тем пурпурней был пасть разевающий, кровавый гриффончик.
Двери разорвались; запах знакомого помещения охватил Аблеуховых.
Аблеуховы как-то бочком пролетели в отверстие двери, смущаясь друг другом.
КРАСНЫЙ, КАК ОГОНЬ
Оба знали, что им предстоит разговор: разговор – назревал; Аполлон Аполлонович, отдавая лакею цилиндр, замешкался с калошами; Николай Аполлонович не мог догадаться: известна история красного домино; на лакейскую руку упал, серебрясь, пышный бобр; и в своем домино стал теперь Николай Аполлонович – перед оком родителя, у которого в уме завертелися строчки:
Краски огненного цвета*126
Брошу на ладонь,
Чтоб предстал он в бездне света
Красный, как огонь.
Жиловатой рукой он пощупывал бачки:
– «А... а... домино?.. Скажите, пожалуйста!..»
– «Я был ряженым...»
– «Так-с... Коленька, так-с...»
Аполлон Аполлонович стоял, жуя губы: с иронией; собралась его кожа – в морщиночки; натянулась на черепе. Чуялось объяснение: чуялось – плод уж созрел; он сорвется: сорвался и... – вдруг:
Аполлон Аполлонович уронил карандашик (у лестницы); Николай Аполлонович, следуя навыку, бросился: поднимать; Аполлон Аполлонович бросился: упреждать; но – споткнулся, упал, руками касаясь ступенек; его голова пролетела и вниз, и вперед, неожиданно оказавшися: под пальцами – руки сына; Николай Аполлонович увидел отца (сбоку билась артерия); теплая пульсация шеи его испугала; отдернул он руку; но – поздно отдернул: под прикосновением холодной руки голова сенатора – передернулась тиком; чуть дернулись уши; как вертлявый японец, учивший Джу-Джицу*127, отбросился в сторону, распрямлялся – на громко хрустящих коленках.
Все – длилось мгновение. Николай Аполлонович карандашичек подал отцу:
– «Вот!»
Мелочь стукнула их: друг о друга; и – породила в обоих: взрыв мыслей и чувств; Аполлон Аполлонович переконфузился: вспыхнул испугом в ответ на почтительность (красный мужчина был плотью – от плоти его; испугаться же собственной плоти – позорно); сидел он под сыном: на корточках; Аполлон Аполлонович испытал и досаду: он приосанился, изогнул свою талию, сжал губы – в колечко:
– «Спасибо. Желаю тебе: приятного сна...»
Николай Аполлонович чувствовал – прилив крови к щекам; и когда он подумал, что он розовеет, он был багровеющий; Аполлон Аполлонович, увидев, что сын багровеет, стал сам: розоветь; чтобы скрыть эту розовость, он с нарочною грацией полетел: вверх по лестнице.
Николай Аполлонович очутился один, погруженный в глубокую думу; но голос лакея его оторвал:
– «Вот затмение-с!.. Память-то вовсе отшибло... Барин мой, милый: случилось-то – что!..»
– «Что случилось?»
– «Такое, что – иии!.. Как сказать-то – не смею...»
На ступеньках сереющей лестницы, устланной бархатом, временил Николай Аполлонович; из окошка на место, где только что спотыкался родитель, уж падала сеточка очень пурпуровых пятен: напомнила кровь (на старинном оружии).
– «Уж такое случилось! Да – барыня!..»
– «Барыня паша-то, Анна Петровна-с...»
– «Приехали-с!!»
Николай Аполлонович – с тошноты стал зевать отверстием рта на зарю; стоял, красный, как факел.
– «Приехали-с!»
– «Кто приехал?»
– «Да Анна Петровна-с...»
– «Какая такая?..»
– «Родительница... Что вы, барин-голубчик: равно как чужой: ведь приехала матушка ваша...»
– «?»
– «Да-с, из Гишпании, в Петербурх возвратились...»
– «Письмецо-то с посыльным прислали-с: остановились в гостинице... потому – сами знаете...»
– «?»
– «Только что их высокопревосходительство, Аполлон Аполлонович, изволили выехать, как – посыльный: с письмом-с... Ну, письмо – я на стол, а посыльному в руки – двугривенник...»
– «Почитай, не прошло еще часу, как – бог ты мой: заявились вдруг сами-с!.. С, ей-ей, с достоверностью: видно, им было известно, что нетути на дому – никого-с...»
Поблескивал шестопер: пятно павшего воздуха – багровело: столб – от стены до окошка; плясали пылиночки; Николай Аполлонович думал: так пляшет в нем кровь; человек – столб дымящейся крови.
– «Отворяю я, значит, дверь... Неизвестная барыня, простенько одетая: и вся – в черном... Я это им: «Чего угодно-с, сударыня?» А они на меня: «Митрий Семеныч, али – не узнаешь?» – Я же – к ручке: «Матушка, мол, Анна Петровна...»
Стоит первого встречного ткнуть лезвием, как разрежется белая, безволосая кожа (так режется заливной поросенок под хреном).
– «Анна же Петровна – дай, боже, здоровья-с – смотрели: смотрели, иетта, оне... Посмотрели оне на меня: да и – в слезы: «Хочу посмотреть, как вы тут без меня...» Из ридикюльчика – не наших фасонов – повынимали платочек-с...»
– «У меня же, строжайший приказ: не пущать.. Только барыню нашу пустил... А оне...»
Вместо всякого удивления, сожаления, радости – Николай Аполлонович полетел вверх по лестнице, развевая В пространство кровавый атлас, будто хвост.
Николай Аполлонович оттого полетел вверх по лестнице, прервавши Семеныча, что он ясно представил себе: действие негодяя*128; представился негодяй; лязгнули в пальцах у негодяя блиставшие ножницы, когда мешковато он бросился простригать артерию старикашки; у старикашки: была пульсом бьющая шея... – какая-то рачья; и – негодяй: лязгнул ножницами по артерии; и вонючая, липкая, кровь облила ему ножницы; старикашка же – безбородый, морщинистый, лысый – заплакал навзрыд; и уставился прямо в очи его, приседая на корточки, силясь нажать то отверстие в шее, откуда с чуть слышными свистами прядала... кровь...
Этот образ предстал перед ним (ведь, когда старик пал на карачки, он мог бы сорвать со стены шестопер, размахнуться, и...): он – испугался.
Оттого-то и бросился: в бегство – по комнатам, топоча каблуками.
ДУРНОЙ ЗНАК
Комнаты осветились уж солнцем; стреляла по воздуху инкрустация столиков; все зеркала засмеялися, потому что зеркало, глядевшее в зал из гостиной, теперь отразило петрушку; бежал; и – зеркало перекинуло зеркалу отражение; в зеркалах отразился петрушка, с разбегу влетевший в гостиную, вставший, как вкопанный, убегающий взорами в зеркала, потому что он видел: первое зеркало отразило: остов в застегнутом сюртуке, от которого вправо и влево загнулось: по голому уху, по маленькой бачке.
Аполлон Аполлонович, вместо сына, увидевши в зеркалах марионетку, стал ждать ее.
Аполлон Аполлонович притворил двери в зало; и – отступление было отрезано: надо было кончать. Разговор он рассматривал, как хирургический акт. Как хирург, подбегающий к операционному столику, на котором разложены ножички, пилочки, свёрла, – Аполлон Аполлонович, потирая пальцы, шел к Nicolas, остановился, вынул футляр от очков, повертел между пальцами, спрятал и кашлянул:
– «Так-то вот: домино».
– «Что ж!.. Были в масках... Так и я себе то же... костюмчик...»
Николай Аполлонович думал, что двухаршинное тельце родителя (в окружности двенадцать вершков) – периферия самосознающего центра: засело там «я»; но любая доска, оборвавшись не вовремя, могла центр придавить: под влиянием этой воспринятой мысли о нем Аполлон Аполлонович отбежал к отдаленному столику, пробарабанивши пальцами; Николай Аполлонович, наступая, смеялся:
– «Было, знаешь ли, весело... Танцевали мы, знаешь ли...» Думал он: кожа да кости, да кровь, – без единого мускула;, эта преграда – должна разорваться на части; если будет сегодня избегнуто, будет с завтрашним вечером набегать...
Аполлон Аполлонович, безотчетно поймавши в блистающем зеркале взгляд, повернулся на каблучках: и – поймал кончик фразы.
– «Потом мы играли в «petits-jeux»4
Аполлон Аполлонович – ничего не ответил; а взгляд исподлобья уперся в паркетики... Аполлон Аполлонович вспомнил: ведь этот «петрушка» был маленьким тельцем, которое он с отеческой нежностью таскал на руках; белокудрый мальчоночек, надев колпачок из бумаги, взбирался на шею; и Аполлон Аполлонович, детонируя и срывался, с хрипотцой напевал:
Дурачок, простачок,
Коленька танцует:
Он надел колпачок –
На коне гарцует.
Подносил это тельце ребенка к вот этому зеркалу: отражалися старый и малый; показывал мальчику отражения:
– «Посмотри-ка, сыночек: чужие там...»
Коленька плакал, кричал по ночам. А теперь? Аполлон Аполлонович видел тело: чужое, большое...
И Аполлон Аполлонович – зациркулировал:
– «Видишь ли, Коленька...»
Опустился в глубокое кресло.
– «Мне, Коленька, надо... То есть не мне, а –
Суеверы сказали бы:
– «Дурной знак!..»
Николай Аполлонович, очевидно, старался опять оттянуть объяснение: объяснение теперь было излишне: все так объяснилось бы. Николай Аполлонович пожалел, что •вовремя не удрал из гостиной:
– «Папаша: признаться сказать, объяснения нашего ждал».
– «Ты свободен?»
– «Свободен».
От отца он не мог оторваться: стоял перед ним... Здесь я должен сказать: –
О, достойный читатель: явили наружность носителя бриллиантовых знаков без юмора мы: как она предстояла бы всякому наблюдателю – а не так, как она открывалася нам: мы ведь к ней присмотрелись; проникли мы в донельзя потрясенную душу и в вихри сознания; не мешает напомнить читателю вид той наружности в общих чертах: накой видимый вид, такова же и суть; если бы эта суть нам предстала, промчались бы вихри сознания, разорвавши лобные кости – молчание! А посторонний взор видел бы: остов гориллы.
– «Коленька, пойди к себе в комнату: соберись прежде с мыслями. Если ты найдешь в себе нечто, что не мешало бы нам обсудить, приходи в кабинет».
– «Слушаю, папа...»
– «Да, кстати: сними балаганные тряпки... Мне все это не нравится...»
– «?»
– «Да, не нравится! Не нравится в высшей степени!!!»
Две желтых костяшки отчетливо пробарабанили на ломберном столике.
У СТОЛИКА
Николай Аполлонович остался у столика: взоры забегали по коробочкам, полочкам, выходящим из стен. Да, вот тут он играл; тут подолгу он сиживал – на этом вот кресле, где на бледно-атласной лазури сидения завивались гирляндочки; и все так же, как прежде, висела картина Давида «Distribution des aigles par Napoléon Premier», изображавшая императора в венке и в порфире.
Что скажет отцу? Снова лгать? Когда ложь бесполезна? Лгать – в его положении? Николай Аполлонович вспомнил, как лгал еще в детстве.
Рояль, стильный, желтый: коснулся паркета колесиками; садилась здесь матушка; старые звуки Бетховена потрясали здесь стены.
Вот глянуло солнце: бросало свои мечевидные светочи: тысячерукий титан из старины освещал шпицы, крыши, к стеклу приникающий склеротический лоб; тысячерукий титан немо плакался там на свое одиночество: «Приходите, идите – к старинному солнцу!»*129
Но солнце ему показалось громаднейшим тысячелапым тарантулом, с сумасшедшею страстностью нападавшим на землю...
Зажмурил глаза, потому что все вспыхнуло: ламповый абажур осыпал аметисты; и искорки разблисталися на крыле золотого амура; и вспыхнула поверхность зеркал – одно – раскололось.
– «А как же... мы...»
Николай Аполлонович поднял свой лик...
– «Как же... с барыней?»
Он увидел Семеныча.
– «Да... не знаю я, право...»
Семеныч пожевывал губы:
– «Барину, что ли, докладывать?»
– «Разве папаша не знает?»
– «Да не осмелился я...»
– «Да идите, скажите...»
– «Пойду... Уж скажу...»
И пошел в коридор.
Все, все, все: этот солнечный блеск, стены, тело, душа – все провалится; все уже валится, валится; и – будет: бред, бездна, бомба.
Бомба – быстрое расширение газов... Круглота расширения вызывала в нем позабытую дикость.
В детстве он бредил; по ночам иногда, перед ним выясняясь, попрыгивал эластичный комочек, не то – из резины, не то – из материи очень странных миров; вызывал на полу тихий ласковый звук: пе́пп-пеппе́п; и опять: пе́пп-пеппе́п; разбухая до ужаса, принимал часто видимость шаровидного толстяка господина; господин же толстяк, став томительным шаром, – все ширился, ширился, ширился и грозил – навалиться:
– «Пе́пп...»
– «Пе́ппович...»
– «Пе́пп...»
И – он разрывался на части.
Николенька принимался выкрикивать ерундовские вещи – о том, что и он округляется, что он – ноль; все в нем нолилось-ноллилось-ноллл...
Гувернантка же, Каролина Карловна, в белой кофточке, с папильотками в волосах, на него сердито смотрела из желтого круга свечи, а круг – ширился, ширился: Каролина Карловна повторяла:
– «Ти, малинка Колинка, успокойсия: это – рост...»
Не глядела, а – карлилась: карллилась, карллл...
Пе́пп Пе́ппович Пе́пп*130...
– «Что я, брежу?»
Николай Аполлонович приложил ко лбу пальцы: бред, бездна, бомба.
А в окне, за окном – издалека-далека, где тихо принизились берега, где покорно присели островные здания, остро, мучительно, немилосердно блистая, уткнулся в высокое небо пронзительный Петропавловский шпиц.
По коридору прошел шаг Семеныча. Медлить нечего: Аполлон Аполлонович ждет.
КАРАНДАШНЫЕ ПАЧКИ
Кабинет сенатора: высился стол; и – не главное; шли шкафы по стенам; справа – первый, и третий, и пятый; а слева: шли четные; полки гнулись под планомерно расставленной книгою; посредине стола лежал курс «
Аполлон Аполлонович перед отходом к сну очень часто развертывал книжечку, чтобы жизнь в голове успокоить в блаженнейших очертаниях: параллелепипедов, параллелограммов, параллелоидов, конусов, кубов.
Спинка кресла, обитая кожей, манила откинуться: томительным утром. Аполлон Аполлонович был весьма чопорен; он сидел над столом, совершенно прямой, поджидал негодного сына; он выдвинул ящичек; там под литерой «р» он достал дневничок, озаглавленный «
Его оборвали; раздался испуганный вздох; Аполлон Аполлонович тут сделал нажим, повернувшись: перо обломалось.
– «Барин, ваше высокопревосходительство... Осмелюсь вам доложить (давеча запамятовал)...»
Аполлон Аполлонович вырисовывался сочетанием линий: и серых, и черных; казался офортом.
– «Да вот-с барыня наша-с – осмелюся вам доложить...»
Аполлон Аполлонович повернул громадное ухо...
– «Что́ такое – аа?.. Говорите громче: не слышу».
Дрожащий Семеныч склонился к бледно-зеленому уху, глядящему на него выжидательно:
– «Барыня... Анна Петровна-с... Вернулись...»
– «?..»
– «Из Гишпании – в Петербурх...»
– «Как так?!?»
– «Остановились в гостинице...»
– «Только что ваше высокопревосходительство изволили выехать-с, как посыльный-с, с письмом-с...»
– «Ну, письмо я на стол, а посыльному в руки – двугривенный...»
– «Не прошло еще часу, вдруг: слышу я иетта – звонятся...»
Аполлон Аполлонович, положив руку на руку, коренился на кресле в спокойном бесстрастии, без движенья, без мысли: взгляд падал на книжные корешки: «Свод Российских Законов. Том первый, том второй». На столе перед пачками золотела чернильница; ручки и перья; тяжелое пресс-папье, на котором серебряный мужичок (верноподданный) поднимал кверху братину.
– «Отворяю я, ваше высокопревосходительство, дверь: барыня...»
– «Я им: «Чего угодно?» Барыня – на меня: «Митрий Семеныч...»
– «Я – к ручке: «Матушка, мол, Анна Петровна...»
– «Говорят: «Вот хочу посмотреть, как вы тут без меня...»
Аполлон Аполлонович выдвинул ящик, и вынул дюжину карандашиков (очень-очень дешевых), взял пару их в пальцы; и – палочки захрустели под пальцами. Аполлон Аполлонович выражал свою муку: ломал карандашные пачки, для этого случая содержимые в ящике под литерой бе.
Но, хрустя карандашными пачками, все же сумел сохранить беспристрастный свой вид; и никто, никогда не сказал бы, что – чопорный барин...: что лобная выпуклость таила желание опоясать землю, как цепью, проспектом.
Семеныч ушел. Аполлон Аполлонович, бросив обломки карандашей, помолодел, быстро стал поправлять галстук, быстро вскочил и забегал, какой-то вертлявенький; он напомнил вдруг сына: фотографический снимок с Николая Аполлоновича тысяча девятьсот четвертого года.
В это время из дальнего помещения комнат раздался удар за ударом; и Аполлон Аполлонович остановился, хотел запереть кабинетик на ключ, но... задумался, потому что удар оказался лишь звуком захлопнутой двери (звук шел из гостиной); мучительно кашляли, шлепая туфлями: старина крепла в памяти звуками пения, под которое Аполлон Аполлонович впервые влюбился: «Уйми-теесь... вааал-нее-ния... страааа-сти...»
– «Уу-снии... бее-знаа-дее-жнаа-ее сее-ее-ердце...»
– «Так почему же, так что же?»
Дверь отворилась: на пороге стоял Николай Аполлонович, в мундирчике, даже при шпаге (так он был на балу, только снял домино), но в туфлях и в пестрой татарской ермолке.
– «Вот, папаша, и я...»
Аполлон Аполлонович, вместо речи о домино (до домино ли теперь?), заговорил о другом обстоятельстве.
– «Видишь ли, Коленька... Мать твоя, Анна Петровна, вернулась...»
Николай Аполлонович подумал: «Так вот оно что»; притворился взволнованным:
– «Как же: я – знаю...»
Действительно, в первый раз он представил, что мать его, Анна Петровна, вернулась: но принялся за старое: за созерцание шеи, ушей старика... Переконфуженный вид и девичья стыдливость, с которой старик...
– «Анна Петровна, друг мой, совершила поступок, который... так сказать, трудно... трудно мне, Коленька, с достаточным хладнокровием: квалифицировать...»
Пискнула мышь.
– «Словом, поступок – известен; поступок, – ты это заметил, – воздерживался при тебе обсуждать, во внимание к твоим естественным чувствам...»
Они – неестественны...
– «Да, папаша: я вас понимаю...»
– «Конечно же», – Аполлон Аполлонович сунул два пальца в жилетный карманчик и снова забегал по диагонали (от угла к углу).
– «Конечно же: возвращение в Петербург – неожиданность».
(Аполлон Аполлонович остановил взгляд на сыне и приподнялся на цыпочках.)
– «Полная...»
– «Неожиданность для всех нас...»
– «Кто бы мог подумать?..»
– «То же самое и я говорю: кто бы мог подумать», – Аполлон Аполлонович растерянно развел руки и поднял плечи: раскланялся перед полом, – «что Анна Петровна вернется...», забегал опять: – «Эта полная неожиданность может окончиться, как имеешь все основания полагать, изменением (Аполлон Аполлонович поднял палец, гремя на всю комнату) нашего домашнего status quo5; или же (он повернулся) все – останется».
– «Я полагаю...»
– «В первом случае – милости просим...»
Аполлон Аполлонович раскланялся двери.
– «Во втором», – Аполлон Аполлонович заморгал. – Аполлон Аполлонович поднял глаза; и глаза были грустные:
– «Коленька, право, не знаю: но думаю... Трудно тебе объяснить, приняв во внимание естественность чувства, которое...»
Николай Аполлонович чувствовал прилив – можете себе представить чего? Любви! К старому деспоту, обреченному разлететься на части.
Рванулся к отцу: еще миг – он упал бы перед ним на колени, чтобы каяться и молить о пощаде; но старик поджал свои губы, брезгливо помахал ручками:
– «Нет! Оставьте, пожалуйста... Знаю, что надо вам!.. Вы меня слышали; потрудитесь теперь меня оставить в покое».
Простучали два пальца; рука показала на дверь:
– «Вы, милостивый государь, изволите водить меня за нос; вы, милостивый государь, мне не сын; вы – ужаснейший негодяй!»
Все это Аполлон Аполлонович не сказал, а воскликнул. Николай Аполлонович выскочил в коридор: эти два оттопыренных уха ужо станут – слякотью.
ПЕ́ПП ПЕ́ППОВИЧ ПЕ́ПП
Николай Аполлонович ударился в дверь; на ходу опрокинувши стул, подбежал он к столу:
– «Ай... Где же?»
– «?»
– «!»
– «А!..»
– «Ну, вот-с...»
– «Хорошо...»
Николай Аполлонович сам с собою разговаривал.
И – да: торопился..., а ящик не слушался; он из ящика кинул пачечки перевязанных писем, большой кабинетный портрет; какая-то миловидная дамочка: поглядела; в сторону полетел кабинетный портрет; под портретом же был узелочек; он взвесил его на ладони: какая-то тяжесть; скорей опустил.
Стал развязывать узлы полотенца: – вертлявенький – напоминал он сенатора: еще более – фотографический снимок сенатора шестидесятого года.
Дрожащие пальцы не развязали узла; да и нечего было развязывать: все было ясно. Тем не менее узелок развязал: его изумление не имело границ:
– «Бонбоньерка...»
– «А?..»
– «Ленточка!..»
А когда сорвал ленточку, то надежда разбилась (па что-то надеялся): в бонбоньерке, под розовой ленточкой – вместо сладких конфет от Баллэ – заключалась жестяночка.
Тут, попутно, заметил он часовой механизм, приделанный сбоку: надо было сбоку вертеть металлическим ключиком, чтобы острая черная стрелка стала на час. Николай Аполлонович чувствовал, что повернуть этот ключик не сможет: ведь не было средств пресечь ход механизма; и, чтобы тут же отрезать дальнейшее отступление, Николай Аполлонович заключил металлический ключик меж пальцев; оттого ли, что дрогнули пальцы, и чувствовал головокружение, но свалился в ту бездну, которую хотел избежать – : ключик медленно повернулся на час, потом на два часа, а Николай Аполлонович... отлетел как-то в сторону; покосился на столик: стояла жестяночка из-под жирных сардинок (однажды объелся сардинками и с той поры их не ел); сардинница, как сардинница: круглогранная...
– «Нет!»
Сардипница ужасного содержания!
А уму не постижная жизнь уже вспыхнула; и ползли: часовая, минутная стрелки; а суетливая секундная волосинка заскакала по кругу – до мига, когда... –
– ужасное содержанье сардинницы кинется – расширяться без меры; тогда: разлетится сардинница...
– газы прытко раскинутся по кругам, разрывая с бурным грохотом столик: и – лопнет в нем, хлопнув; тело – будет разорвано вместе с щепками; вместе с газами разбросается слякотью;
– в сотую долю секунды провалятся стены, а содержание, ширяся, свиснет в тусклое небо щепами, камнями и кровью.
Стремительно разовьются косматые дымы и пустят хвосты на Неву.
Раз он ключ повернул, надо было коробочку полошить (например – в белой спаленке); или же: раздавить под пятой.
Раздавить под пятой?
Уши дернулись: испытывал тошноту, точно бомбу, которую он проглотил, как пилюлю: под ложечкой вспучилось.
Не раздавит он, никогда!
Остается бросить в Неву, но – на это есть время: стоит ключик еще двадцать раз повернуть; все отсрочится; но он медлил, в бессилии опустившися в кресло; дремота одолевала; ослабшая мысль, отрываясь от тела, бессмысленно рисовала какие-то праздные арабески...
Николай Аполлонович не бессмысленно посвятил философии лучшие годы: был чужд волхвованию: волхвование туманило, затемняло представление об источнике совершенства; для философа совершенство есть Мысль: бог, так сказать. Законодателей великих религий Николай Аполлонович, так сказать, уважал.
Да: почему о религии? Есть ли время подумать... Последнее усилие Николая Аполлоновича восстать из дремоты не увенчалось успехом; и ни о чем он не вспомнил; казалось спокойным... до обыденности; ослабшая мысль, отрываясь от тела, бессмысленно рисовала бессильные арабески.
Будду*131 Николай Аполлонович Аблеухов особенно уважал, полагая: буддизм превзошел все религии в двух отношениях; в психологическом – научая любить и животных; в теоретическом: логика развивалась тибетскими ламами*132: Николай Аполлонович вспомнил, что он читал логику Дармакирти с комментарием Дармотарры*133...
Это – во-первых.
А во-вторых: от поры до поры, меж подъездных дверей на него нападало одно, очень странное, странное состояние: будто все, что было за дверью – не то, а иное; за дверью и нет ничего; если дверь распахнуть, – распахнется в космическую безмерность, куда остается... лишь кинуться вниз головой, чтоб лететь мимо звездочек и планетных шаров – в атмосфере двухсот семидесяти трех градусов холода.
СУД
Вот в таком состоянии он сидел пред сардинницей: видел – не видел; и слышал – не слышал; и грянулось тело с паркетиков иола в нуль градусов; голова наклонилась неслышно на стол (на сардинницу), а в открытую дверь коридора гляделось бездонное, что Николай Аполлонович постарался откинуть, переходя к далекому странствию, или сну (что заметим мы, – то же); открытая дверь открывала космическую безмерность.
Из двери, из этой безмерности, на него поглядели: какая-то там голова (поглядела – исчезла): какого-то существа; киргиз-кайсацкие предки его находились в сношении с тибетскими ламами; в крови Аб-Лай-Уховых копошились изрядно. Не оттого ли он испытывал нежность к буддизму? Сказалась наследственность; в склеротических жилах наследственность билася миллионами шариков.
Сон оборвался: мучительно, немо шел кто-то: там, там старина, как на нас налетающие таксомоторные вопли, окрепла старинными звуками пенья.
– «Уйми-теесь... ваа-лнее-ния страаа-аа-стии...»
– «Усни... безнаа...»
– «Ааа», – взревело в дверях: труба таксомотора? Нет: стояла старинная голова.
Николай Аполлонович привскочил.
Голова: Кон-Фу-Дзы*134 иль Будды? В дверях пришепетывал шелковый переливный халат; и вспомнился: собственный бухарский халат, на котором такие же переливные перья... – халат, на котором по дымно-сапфирному полю ползли остроклювые, золотые, крылатые, малых размеров дракончики. О пяти своих ярусах шапка с полями казалася митрою*135; над головой светил многолучевой ореол: в его центре какой-то морщинистый лик разьял губы
Николай Аполлонович думал: под видом монгольского предка пожаловал Хронос*137; в руках Незнакомца отыскивал лезвие традиционной косы; косы – не было: в благоуханной, как первая лилия, желтоватой руке было блюдце восточное, с пахнущей кучечкой розовых яблочек: райских.
Рай он отрицал: рай, иль сад – не совмещался в нем с представлением высшего блага (ои был кантианец); он был человек нирванический.
А под Нирваною разумел он – Ничто.*138
Николай Аполлонович зафантазировал; он – старый туранец*139 – он – воплотился в кровь, в плоть столбового дворянства, чтоб исполнить заповедную цель: расшатать все устои; в испорченной крови был должен вскормиться Старинный Дракон*140: и жрать пламенем все; стародавний восток градом бомб осыпал наше время; и Николай Аполлонович – старая туранская бомба: теперь разрывался, увидевши родину; и на лице появилось монгольское выражение; он казался теперь мандарином Срединной империи*141, облеченным в сюртук при проезде на запад '(ведь был он с секретнейшей миссией).
Так старинный туранец, одетый на время в арийское домино, быстро бросился к кипе тетрадок, в которых пм были начертаны положения продуманной метафизики: и все тетрадки сложились в громадное дело – всей жизни; сплошное, монгольское дело сквозило в записках под пунктами, всеми параграфами: ему врученная миссия.
Гость, преподобный туранец, стоял: его руки ритмически поднялись в вышину; и плеснула одежда, как веянье пролетающих крыл; поле дымного фона очистилось, углубилось и вдруг стало небом, глядящим в разорванный воздух обычного кабинетика: темно-сапфирная щель – оказалась в шкафами заставленной комнате (так халат стал – огромною щелью на небо); мерцали там звездочками... Кубовый воздух, настоянный на звезде, бил оттуда.
И Николай Аполлонович бросился к гостю (туранец к туранцу) с тетрадкой в руке:
– «Кант (и Кант был туранец)».
– «Ценность, как метафизическое ничто!»
– «Социальные отношения, построенные на ценности».
– «Разрушение арийского мира системою ценностей».
– «Заключенье: монгольское дело».
Туранец ответил.
– «Задача не понята: параграф первый – Проспект».
– «Вместо ценности – нумерация: по домам, этажам и по комнатам на вековечные времена».
– «Вместо нового строя зарегистрированная циркуляция граждан Проспекта».
– «Не разрушенье Европы – ее неизменность»...
– «Монгольское дело...»
Он – осужден; а морщинистый лик наклонился вплотную: взглянул он на ухо, и – понял, что старый туранец, его наставлявший всем правилам мудрости, – Аполлон Аполлонович; вот на кого поднял руку он.
– «Как же это... такое? Кто это... такое?»
– «Отец...»
– «Кто?»
Суд наступил.
Течение времени перестало быть; все погибало.
– «Отец!»
– «Ты меня хотел разорвать; и от этого все погибает».
– «Не тебя, а...»
– «Все рушится: валится на Сатурн...»
Атмосфера темнела за окнами: все пришло в раскаленное состояние, расширяясь без меры; вертелось ужасно.
– «Cela... tourne...»6 – заревел Николай Аполлонович, лишившийся тела, но этого не заметивший.
– «Нет, sa... tourne...»7
Лишившийся тела, он чувствовал тело: невидимый центр, бывший прежде сознаньем, казался имеющим подобие прежнего; логика обернулась костями; а силлогизмы вокруг завернулися сухожильями; содержание логики обросло теперь мясом; так «я» вновь явило телесный свой образ; и в разорвавшемся открылось чуждое «я»: пробежало с Сатурна; вернулось к Сатурну.
Он сидел, как и сиживал раньше – без тела, но в теле (вот странность-то!): за окнами, в темноте, раздавалось:
Летоисчисление бежало обратно.
– «Какого же мы летоисчисления?»
Но Сатурн, Аполлон Аполлонович, расхохотавшись, ответил*142:
– «Никакого, Коленька, никакого: времяисчисление, мой родной – нулевое...»
– «Ай, ай: что ж такое «я есмь»?
– «Нуль...»
– «А нуль?»
– «Бомба...»
Николай Аполлонович понял, что он – бомба: и, лопнувши, хлопнул.
Очнулся от сна; понял он – голова-то лежит на сардиннице.
Страшный сон... А какой? Не припомнился: детские кошмары вернулись: Пепп Пеппович Пепп, распухающий из комочка – в сардинной коробочке; –
Пепп Пеппович Пепп есть партийная бомба: неслышно стрекочет; Пепп Пеппович Пепп будет шириться, шириться. И Пепп Пеппович Пепп: лопнет!
– «Что я... брежу?»
Опять в голове завертелось: что ж делать? Лишь – четверть часа: повернуть?
Ключик он повернул двадцать раз; двадцать раз что-то хрипнуло: бреды ушли, чтобы утро осталося утром, день – днем, вечер – вечером; на исходе же ночи движение ключика не отсрочит: развалятся стены.
ГЛАВА ШЕСТАЯ,
о которой рассказаны происшествия серенькою денька.|
За ним повсюду Всадник Медный С тяжелым топотом скакал.*143 |
ВНОВЬ НАЩУПАЛАСЬ НИТЬ ЕГО БЫТИЯ
Александр Иванович приоткрыл слипавшиеся глаза: ночь была событием исполинских размеров.
Переходное состояние между бденьем и сном – точно с пятого этажа он выскакивал через окошко; ощущения открывали брешь; влетал в эту брешь.
Пробуждение стремительно низвергало оттуда: все тело болело и ныло.
Заметил: трясет жесточайший озноб; ночь метался он: что-то было – наверное...
Длилось бредное бегство: не то по туманным проспектам, не то – по ступеням таинственной лестницы; или верней – бегала лихорадка: по жилам; воспоминание говорило о чем-то, но – ускользало; связать он чего-то не мог.
Не на шутку испуганный (при одиночестве он боялся болезней), подумал он: не мешало бы высидеть.
– «Мне бы хинки».
– «Да крепкого чаю...»
– «С малинкою...»
Он невольно вздохнул:
– «Мне бы строгое воздержание... Не читать Откровение... Не спускаться бы к дворнику... Не болтать бы со Степкою...»
Мысли о чае, о водке, о Степке, об Откровении – успокоили.
Но, умывшись из крана холодной водою, почувствовал снова: прилив ерунды.
Он окинул двенадцатирублевую комнату (чердачное помещение).
Убогое обиталище!
Постель состояла из треснутых досок, положенных на деревянные козлы; на них выдавались засохшие, вероятно, клопиные пятна.
Козлы были покрыты набитым мочалой матрасиком; вязаное одеяльце вряд ли можно было назвать полосатым: намеки голубых и красных полос покрывались налетами вовсе не грязи, а многолетнего и деятельного употребления (оно ездило и в Якутскую область) .
Висел образок, изображавший молитву Серафима Саровского*144 (Александр Иванович под сорочкою носил крестик).
Кроме постели, был гладко обструганный столик: такие же столики фигурируют в виде подставок для умывального таза – на дачках; такие же столики продаются на рынках; служил он и письменным столиком, и ночным; умывальный тазик отсутствовал: Александр Иванович пользовался услугами водопроводного крана, сардинной коробочки, содержащей обмылок казанского мыла; была еще вешалка; кончик стоптанной туфли (однажды он видел во сне, будто туфля – живое создание, как собачка, иль кошка; самостоятельно шлепала, переползая по комнате и шурша по углам; когда он собирался ее покормить мягким жеваным ситником, шлепающее создание дырявым отверстием укусило за палец; проснулся) .
Разбухал тут коричневый чемодан, изменивший первоначальную форму.
Все убранство сего обиталища отступало перед цветом обой, неприятных и наглых, – не то темно-желтых, не то темновато-коричневых, с пятнами сырости: по вечерам по пятну проползала мокрица.
Александр Иванович Дудкин оглядывал обиталище: его тянуло из комнаты – прочь: в грязноватый туман, чтобы слиться с плечами, со спинами, с зеленоватыми лицами на петербургском проспекте.
К окну прилипали рои октябрёвских туманов; почувствовал: желание пронизаться туманом и в нем утопить стрекотавшую в мозгах ерунду, угасить вспышки бреда гимнастикой ног; надо было шагать: от проспекта к проспекту, от улицы к улице – до онемения мозга, чтобы свалиться на столик харчевни, обжечь себя водкой.
Надевши пальтишко, он снова подумал:
– «Теперь бы да хинки!»
Какая там хинка...
– «Теперь бы да крепкого чаю с малинкою!..»
ЛЕСТНИЦА
Лестница!
Грозная, теневая, сырая, – она отдавала безжалостно шаркнувший шаг. Это было сегодняшней ночью; он тут проходил: не во сне это было.
Ширилось: погибельное молчание; строило шорохи; и без меры, без устали губошлеп глотал слюни в тягучей отчетливости; были звуки, сплетенные из стенанья времен; сверху, из окон, порой мгла взметалась в клочкастые очертания; и тусклая бирюза стлалась под ноги – без единого звука.
Глядела луна.
Но рои набегали: косматые, дымные, – все на луну: бирюза омрачалася.
Александр Иванович вспомнил: по лестнице он вчера пробежал, напрягая последние силы, без всякой надежды осилить – что именно? А какое-то очертание – бежало за ним.
И губило его без возврата.
Лестница!
В серый день обыденна; тут ухают глухо удары: то рубят капусту; на перилах: разложенный, кошкою пахнущий, полурваный ковер – из четвертого номера; полотер в него бьет выбивалкой; чихает от пыли в передник какая-то белокурая халда.
Клеенкой обитые двери!
Та, та и та... От той отодралася клеенка; и конский волос космато так выпирает из дыр; а у этой булавкой приколота карточка; и на ней: «Закаталкин»... Кто такой, как зовут, как по отчеству, какая профессия – предоставляю судить: «Закаталкин» – и все тут.
Скрипичный смычок трудолюбиво выпиливает знакомую песенку; слышится голос:
– «Атчизне любимай...»
Я так полагаю, что Закаталкин – скрипач: из оркестрика ресторации.
И, ВЫРВАВШИСЬ, ПОБЕЖАЛ
Прочь отсюда! На улицу!..
Надо вновь зашагать: все шагать – до полного онемения мозга, чтобы не снилися мороки; отшагать Петербург, затеряться в сыром тростнике, в дымах виснущих взморья, в оцепенении от всего отмахнуться, очнуться среди огоньков петербургских предместий.
Затрусил вниз по лестнице; но внезапно остановился; заметил: какой-то субъект в итальянской накидке и в фантастически загнутой шляпе несется, отчаянно завертевши в руке тяжеловесную трость.
Этот странный субъект впопыхах налетел; он едва не ткнул в грудь; закинулась его голова; Александр Иванович Дудкин под носом увидел покрытый испариной лоб – с бьющейся жилой; (по прыгавшей жиле) узнал Аблеухова. '
Николай Аполлонович отрезал ему угрожающим шепотом:
– «Вы, конечно, поняли: не
– «!»
– «Отказ: бесповоротный. Можете так передать. И прошу оставить в покое...»
Николай Аполлонович повернулся; вертя тяжеловесную свою трость, бросился по ступенькам обратно.
– «Да стойте же», – заспешил Александр Иванович и почувствовал дробь летящей ступенями лестницы.
– «Николай Аполлонович?»
Он поймал Аблеухова за рукав, но тот вырвался.
Припустился по дворику.
Александр Иванович ухватился за дверь, чувствовал сильнейшее беспокойство: и в два скачка он нагнал.
Он вцепился рукой в отлетающий край итальянской накидки; мгновение они забарахтались между сложенных дров; Николай Аполлонович, отрывисто, задыхаясь от гнева, выкрикивал громко какую-то оскорбительную свою ерунду:
– «Это вы называете выступлением, партийной работой? Окружить меня сыском. Всюду следовать... Самому же во всем разувериться... Милостивый государь, вы... вы... вы...»
Наконец, снова вырвавшись, Николай Аполлонович побежал.
УЛИЦА
Уж летели по улице:
– «Николай Аполлонович», – не унимался взволнованный Дудкин, – «вы согласитесь: без объяснения нам расстаться нельзя...»
– «Больше не о чем говорить», – бросил вскользь Николай Аполлонович.
– «Объясните толковее», – настаивал Александр Иванович.
Обида и изумление изобразились в чертах; Николай Аполлонович неподдельность того изумления не мог не заметить.
И обернулся без прежней запальчивости, но с плаксивою злостью:
– «О чем еще там объясняться?.. Я вправе потребовать... Я ведь страдаю, не вы, не товарищ ваш...»
– «Что?»
– «Передать узелок...»
– «Ну?»
– «Без предупреждения, объяснения...»
Александр Иванович весь покраснел.
– «И потом в воду кануть... Через какое-то подставное лицо угрожать мне полицией...»
Александр Иванович нервно дернулся:
– «Остановитесь: какая полиция?»
– «Что за мерзость?.. Что за намеки?.. Кто из нас невменяем?»
Но Николай Аполлонович прохрипел:
– «Я бы вас», – раздался его хрип (рот, кусая, кидался на ухо)... – «Я вас сейчас – вот на этом вот месте...»
Там вон, там... –
Из того глянцевитого домика в летний вечер жевала губами все какая-то старушоночка.
Александр Иванович знал, что тот самый снаряд принесен был сперва на чердак – из вот этого домика.
Вздрогнул невольно.
Из бреда сенаторского сынка о полиции, о решительном, бесповоротном отказе, он понял единственно:
– «Слушайте, весь вопрос в узелке...»
– «О ней: вы мне передали ее на хранение».
Разговор шел у
– «Николай Аполлонович, – вы меня оскорбляете: что же вы видите предосудительного в поступке моем?»
– «Как?»
– «Партия», – слово произнес шепоточком, – «просила до времени поберечь узелок? Вы были согласны? И – все... Если вам неприятно держать узелок, я могу забежать за ним».
– «Ах, оставьте, пожалуйста, эту мину невинности... если бы дело касалося одного узелка...»
– «Тсс! Потише: нас могут услышать...»
– «То... я бы вас понял... не притворяйтесь несведущим...»
– «В чем же дело?»
– «В насилии».
– «Насилия не было...»
– «В сыске...»
– «Насилия, повторяю же, не было: вы – согласились».
– «Да, – летом...»
– «Что летом?»
– «Да, в принципе я соглашался, или, верней, предлагал, и... пожалуй... я дал обещание, предполагая, что принуждения никакого не может быть, как нет принуждения в партии; если у вас принуждение, то – вы, просто, шаечка интриганов... Ну, что ж?.. Обещание дал, но... – разве я думал, что обещание не может быть взято обратно...»
– «Постойте...»
– «И разве я знал, что предложение мое они так повернут... Мне – предложат...»
– «Постойте: я все-таки перебью... Это вы о каком обещании?»
– «Да, о
Вспомнилось, как однажды в трактирчике сообщил Николай Степаныч Липпанченко: сообщил, будто бы Николай Аполлонович... Не хочется вспоминать!.. И он быстро прибавил:
– «Так ведь я не о
– «Как не в том? Вся суть – в обещании: в обещании, истолкованном бесповоротно и
– «Тише же, Николай Аполлонович, что тут подлого? Где тут подлость?»
– «Как где?»
– «Где? Партия просила до времени поберечь: вот и все...»
– «Это все?»
– «Все...»
– «Если б дело касалося узелка, то я понял бы вас: извините...»
Махнул он рукой:
– «Разве не видите, – разговор топчется вокруг одного и того же: сказка про белого бычка, да и только...»
– «Вы вот заладили – затвердили о каком-то насилии; я припомнил: и до меня дошли слухи...»
– «Ну?»
– «О насильственном действии, которое вы нам предложили: так намерение исходило от вас!»
Александр Иванович вспомнил (
– «Признаться...»
– «Требовать от меня, – перебил Аблеухов, – чтобы я... собственноручно...»
– «Вот-вот...»
– «Это гадко!»
– «Да – гадко: и, Николай Аполлонович, я не поверил... Поверь я, вы пали бы... во мнении партии...»
– «Так считаете гадостью?»
– «Извините...»
– «Вот видите! Сами же называете гадостью; сами же приложили тут руку?»
Что-то вдруг взволновало тут Дудкина:
– «Стойте...»
И, схватившись за пуговицы итальянской накидки, впился он глазами в какую-то точку:
– «Не заговаривайтесь: мы – упрекаем друг друга, мы оба согласны... – в наименовании поступка... Ведь подлость?»
Николай Аполлонович вздрогнул:
– «Конечно же подлость!..»
Они помолчали...
Николай Аполлонович, достав из кармана платок, остановился; и обтирал он лицо.
– «Удивляет... меня...»
– «И меня...»
С недоумением поглядели они друг на друга в глаза. Александр Иванович снова дотронулся до края накидки:
– «Чтобы распутать весь узел, ответьте мне: обещание собственноручно (и далее)... – Не от вас исходило?..»
– «Нет! Нет же!»
– «К
– «Нет, нет... то есть», – тут спохватился, что вслух спохватился о подозрительном мысленном ходе; и, спохватившись, покраснел:
– «Я отца не любил... И не раз выражался... Но чтобы я?.. Никогда!»
– «Верю».
Николай Аполлонович, как назло, покраснел вдруг до корня ушей; покрасневши, хотел объясниться, но Александр Иванович покачал головой, не желая касаться оттеночка непередаваемой мысли, обоим блеснувшей.
– «Не надо... Я – верю... Я – о другом: вот вы что мне скажите теперь откровенно: я, что ли, причастен?»
Николай Аполлонович с удивлением посмотрел на наивного собеседника: посмотрел, покраснел, и с чрезмерной горячностью, ему нужной теперь, чтобы прикрыть одну мысль, – громко крикнул:
– «Я считаю, что – да... Вы ему помогали...»
– «Кому?»
– «Неизвестному...»
– «?»
– «
– «!»
– «Совершения гадости».
– «Где?»
– «В скверной записке...»
– «Такого не знаю...»
– «Неизвестный», – растерянно настаивал Николай Аполлонович, – «ваш товарищ по партии... Что вы удивились? Что вас удивило?»
– «Но уверяю вас:
– «Как? Нет в партии Неизвестного?..»
– «Да потише же... Нет...»
– «Я три месяца получаю записочки...»
– «От кого?»
– «От него...»
Оба вцепились глазами во вскинутые глаза; и один поникал, ужасаясь; тень слабой надежды блеснула в глазах у другого.
– «Николай Аполлонович», – бесконечное возмущение, победивши испуг, разливалось на скулах у Александра Ивановича багровыми пятнами, – «Николай Аполлонович!..»
– «Ну?»
Но Александр Иванович все не мог отдышаться.
– «Ну – не томите!»
Но Александр Иванович качал головой и молчал: невыразимое что-то струилось с чела его, с костенеющих пальцев.
С трудом он сказал:
– «Заверяю вас – честное слово: я в этой истории ни при чем...»
Николай Аполлонович не поверил.
– «Ну, что ж это значит?»
И посмотрел невидящими глазами в глубь улицы: как улица изменилась!
– «Не легче от этого... Я не спал эту ночь».
Верх пролетки стремительно уносился в глубь улицы: как улица изменилась, – как и ее изменили суровые дни!
Ветер взморья рванулся: посыпалися последние листья; и Александр Иванович все знал наизусть;
Будут, будут кровавые, полные ужаса дни; и потом – все провалится; о, кружитесь, о, вейтесь, последние дни!
О, кружитесь, о, вейтесь по воздуху вы, – последние листья!
РУКА ПОМОЩИ
– «Так он был на балу?»
– «Да, он был...»
– «Разговаривал с батюшкой...»
– «Именно: упоминал и о вас...»
– «После встретился в переулке?..»
– «Увел в ресторанчик».
– «Назвался?»
– «Морковиным...»
Николай Аполлонович растараторился, наклонял низко профиль с оскалом рта, напоминая трагическую, античную маску, не сочетавшуюся с вертлявостью ящера.
Продолжал излияния: о бале, о маске, о бегстве по залу, сидении на приступочке домика, о подворотне, записочке, наконец, – о трактирчике.
Абракадабра! Они посходили с ума:
С улицы покатились навстречу им многотысячные рои котелков; покатились навстречу: цилиндры; запенилось: страусовое перо.
Отовсюду выскакивал нос.
Нос: орлиный и петушиный; утиный и курий; и – далее, далее... – зеленоватый, зеленый и красный. Катилось навстречу: бессмысленно, торопливо, обильно.
– «Так, стало быть, полагаете вы, – во всем вкралась ошибка?»
Сделав робкий подход, Николай Аполлонович чувствовал, как по телу его рассыпались горстями мурашки (а ну, если он представляется?)
Александр Иванович оборвался от созерцанья носов.
– «Не ошибка, а гнусное шарлатанство вмешалось; бессмыслие – выдержано сознательно: утопить выступление партии».
– «Так помогите мне...»
– «Недопустимое издевательство», – перебил его Дудкин, – «из сплетен и мороков».
Александр Иванович протянул Аблеухову руку; здесь, кстати, заметил, что Николай Аполлонович ниже его (не отличался росточком).
– «Ну, соберите же хладнокровие...»
– «Вам легко говорить:
Успокоил:
– «Уверен: узлы гадкой козни распутать сумею я: тотчас же наведу справки, и...»
Запнулся он: мог дать Липпанченко справки; а – в Петербурге ли он?
– «И...?»
– «Дам завтра ответ».
Александра Ивановича поразил один фактик.
НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ
Вязкую и медленно текущую гущу образовали все плечи; плечо Александра Ивановича приклеилось к гуще: и, так сказать, – влипло; последовал он за плечом, сообразуясь с законами цельности тела; и так выкинут был он на Невский.
Что такое икринка?
Там тело влетающих на панель превращается в общее тело, в икринку икры: тротуары же Невского – бутербродное поле; мысль влипла в мыслительность многоногого существа, пробегающего по Невскому.
И безмолвно они загляделись на многие ноги; и гуща ползла: переползала и шаркала на протекающих ножках; из члеников была склеена гуща; и членик был – туловищем.
Не было на Невском людей; но – ползучая, голосящая многоножка была там; сырое пространство ссыпало многоразличие голосов – в многоразличие слов; все слова, перепутавшись, вновь сплетались во фразу; и фраза казалась бессмысленной; повисла над Невским; стоял черный дым небылиц.
И от тех небылиц, надуваясь, Нева и ревела, и билась в массивных гранитах.
Ползучая многоножка ужасна: по Невскому она пробегает столетия; выше, над Невским, – бегут времена. Переменчива там череда; а здесь – неизменна; периодам времени положен предел. Нет предела людской многоножки; все звенья меняются; она – та же вся; за вокзалом, завернута голова; хвост просунут в Морскую; по Невскому шаркают членистоногие звенья.
Совсем сколопендра!
ДИОНИС
– «Понимаете ли», – твердил Николай Аполлонович, – «понимаете ли вы, Александр Иванович, меня...»
– «Да, я вас понимаю...»
– «В жестяннице...» – затвердил Николай Аполлонович, – «копошилася жизнь: странно тикали часики...»
Александр Иванович подумал тут:
– «Какая такая жестянница?»
Но внимательней вслушавшись, сообразил: речь шла о бомбе.
– «Я привел ее в действие: была, так себе, мертвой... Ключиком я – даже, да: стала всхлипывать, уверяю вас, точно тело спросонья...»
– «Так вы завели?»
– «Да, на двадцать четыре часа...»
– «Что вы сделали?! Скорей ее в реку!?!» – всплеснул Александр Иванович руками.
– «Скривила мне рожу...»
– «Жестянница?»
– «Вообще говоря, очень-очень обильные ощущения овладели, беспрерывно сменяясь, – над ней: очень-очеиь обильные... Черт знает что... Отвращение распирало... Дрянь всякая лезла и, – отвращение к
– «Гм!..»
– «Что-то – от нелуженой посуды... Меня распирало, тошнило!.. Ну, будто ее... проглотил...»
– «Проглотили? Фу, гадость...»
– «Стал бомбою: с тиканьем – в животе».
– «Тише: могут услышать!»
– «Они не поймут ничего: невозможно...»
– «А знаете», – интересовался и Александр Иванович, – «тиканье... если только прислушаться к звуку, в нем будет – и то, и не то... Раз пугал неврастеника; стал пристукивать пальцем, – в такт разговору; так вот: посмотрел, побледнел, замолчал, да как спросит: «Что это?» А я: «Ничего», продолжаю постукивать... Верите ли – с ним припадок: обиделся – не отвечал на поклоны...»
– «Нет-нет: тут понять невозможно... Припоминались – какие-то бреды...»
– «Не детство ли?»
– «Будто слетела повязка со всех ощущений... Зашевелилось над головою – вы знаете? Волосы дыбом: я понимаю, что значит; не волоса; понял это сегодняшней ночью; тело было, как волосы, –
– «И были вы, Николай Аполлонович, как Дионис терзаемый*145... Но – в сторону шутки: теперь говорите другим языком... Не по Канту».
– «Да я уж сказал вам: слетела повязка – со всех ощущений... Да, да, не по Канту – вы верно сказали... Какое там!..»
– «Там, Николай Аполлонович, логика, проведенная в кровь, или – мертвый застой; налетело на вас потрясение жизни, – кровь бросилась к мозгу; в словах ваших слышно биение крови...»
– «И весь-то я пухну, давно пораспух: может быть, сотни лет; и расхаживаю, – распухшим уродом... ужасно».
– «То все – ощущения...»
– «Я... не?..»
– «Наоборот, вы – осунулись».
– «Я стоял там над ней... Да не я там стоял – да не я же, а великан с идиотскою головою, с несросшимся теменем; тело покалывает; и явственно слышу укол – в расстоянии на четверть аршина of тела!.. Подумайте только!.. Был вывернут наизнанку я».
. – «Просто были вы вне себя».
– «Хорошо говорить «вне себя»; выражение – аллегория, не опирающаяся на телесные ощущения; вне
– «Тсс!»
– «На части!..»
– «Давеча, как я был, с узелком, то я спрашивал, почему Я есть Я. Вы не поняли...»
– «А теперь я все понял: но – ужас, ведь ужас...»
– «Не ужас, а подлинное переживание: не словесное, разумеется...»
– «Черт знает что!»
– «Успокойтесь же, Николай Аполлонович, вы страшно устали; не мудрено: столькое пережить! И не такого свалило бы». – Александр Иванович испытывал потребность отделаться от трескотни, чтоб отдать в происшедшем спокойный отчет.
ОТКРОВЕНИЕ
Шагать; вновь шагать, – чтоб свалиться на столик харчевни – соображать и пить водку.
Сам должен был передать письмецо – по поручению
Письмецо-то с собою он брал, отправлялся к Аблеухову – с узелочком; и письмецо передать он забыл; передал его – Варваре Евграфовне, которая говорила, что с Аблеуховым встретится. Письмецо-то могло оказаться ведь... роковым.
Да нет!
Не тем оно было; письмо, по словам Аблеухова, всунуто ему на балу: какою-то маскою...
Александр Иванович успокоился: то письмецо вовсе не было э т и м; полученным от Липпанченки.
Только он сообразил это все, собирался пересечь ток пролеток, как...:
– «Александр Иванович!»
Николай Аполлонович, задыхаясь, бежал через толпу весь дрожащий и потный:
– «Минуточку...»
Господи!
– «Александр Иванович, трудно с вами расстаться...
Я вот что скажу вам еще...» – он отвел до ближайшей витрины.
– «Мне открылось еще...»
– «Николай Аполлонович, мне пора; и по вашему делу...»
– «Секундочку, терцию...»
Николай Аполлонович обнаруживал своим видом, – ну, прямо-таки, вдохновенье какое-то.
– «Рос я, знаете ли, в неизмеримость, со мною росли все предметы; и – комната, и – Петропавловский шпиц: просто некуда было расти; а в конце, в окончании, – там, казалось, иное начало: оно пренелепейшее и дичайшее – может быть, у меня не имеется органа осмыслить тот смысл; в месте органов чувств было – «
– «Слушайте», – перебил Александр Иванович, – «вы скажите-ка: письмецо-то вы через Варвару Евграфовну получили?..»
– «Письмо...»
– «Да не то, не
– «Ах, вы про стихи эти с подписью «Пламенная Душа»?
– «Да уж я там не знаю...»
– «Да, да, получил, получил... Нет – вот я говорю? что – «
– «О, господи: все о том!.. Если бы дома да почитали бы что-нибудь: успокоиться».
– «Ну, не буду, не буду: засяду и буду читать; когда вы успокоили относительно...
– «Да, странно», – кивнул головой утвердительно Александр Иванович: – ведь по части «
– «Или вот тоже: предметы... Черт знает, что такое они: то же все – да не то... вот: жестянница, как жестянница; и – нет; не жестянница, а...»
– «Тсс!»
– . «Жестянница ужасного содержания!»
– «А жестянницу вы скорее в Неву; и все – вдвинется; все вернется на место...»
– «Не станет, не будет...»
Александр Иванович, признаться, не знал, что с болтливостью делать: успокаивать, оборвать разговор?
– «Николай Аполлонович, вы сидели над Кантом в закупоренной непроветренной комнате; налетел на вас шквал – вы прислушались; и себя услыхали в нем... А состояния ваши описаны; и они – суть предмет наблюдений...»
– «Где, где?»
– «В беллетристике, в лирике, в
Александр Иванович улыбнулся безграмотности умственно развитого схоласта; и – продолжал:
– «Психиатр...»
– «?»
– «Назовет...»
– «Да-да-да...»
– «Ну, то да не то – назовите хоть так – псевдогаллюцинацией*146...»
– «?»
– «То есть родом символических ощущений, не соответствующих раздражению ощущения».
– «Ну, так что ж: так сказать, – ничего не сказать!..»
– «Да, вы правы...»
– «Нет, не удовлетворяет...»
– «Конечно же: модернист назовет – ощущением бездны; и символическому ощущению будет подыскивать соответственный образ».
– «Так тут аллегория».
– «Не путайте аллегорию с символом*147: аллегория это символ, ставший ходячей словесностью; например, обычное понимание вашего «
– «Пережил, как рассказывал!»
– «А по поводу бывшего я могу лишь прибавить, что по Платону тот род ощущений и будет вам переживанием мига смерти; Платон, приводя заверения бакхантов*149... Есть тренировка опыта, где ощущения вызывают сознательно и кошмар претворяют работою в закономерность гармонии, изучая тут ритмы, движения, пульсации, вводя трезвость сознания в ощущение расширения, например... Впрочем, что мы стоим: заболтались... Вам надо домой, а... жестянницу в реку; сидите, сидите: и никуда – ни ногой (вероятно, за вами следят); пейте бром: вы ужасно измучились... Впрочем, лучше без брома: злоупотреблявшие бромом становятся неспособными ни на что... Ну, а мне пора в бегство, – по вашему делу».
Александр Иванович шмыгнул в ток котелков, обернулся из тока и выкрикнул:
– «А жестянницу – в реку!»
В плечи влипло его плечо: он стремительно был унесен безголовою многоножкою.
Николай Аполлонович вздрогнул: вернется, засунет ее в боковой свой карман; и – в Неву!
Николай Аполлонович чувствовал: он – расширяется; одновременно он чувствовал: накрапывал дождик.
КАРИАТИДА
Напротив чернел перекресток; нависла кариатида там.
Бородатая кариатида подъезда стремительно в стену вдавила копыто*150; и кажется: оборвется, просыплется!
То, что видит она – переменчиво, неизъяснимо, невнятно: плывут облака.
И видит она под ногами: течение многоножки панели, где мертвенно шелестение пробегающих ног и где зелены лица; не видно по ним, что события где-то гремят.
Наблюдая проход котелков, не сказал бы ты никогда, что гремели события: в городке Ак-Тюке, в Кутаисском театре; в Тифлисе открыл околоточный фабрикацию бомб; библиотека в Одессе закрылась; в университетах России шел митинг; закочевряжились пермяки; стал выкидывать красные флаги уж ревельский чугунолитейный завод...
Наблюдая проход котелков, не сказал бы никто: началась забастовка уже на Московско-Казанской дороге: поразбивали на станциях стекла, врывались в пакгаузы; и – прекращали работу на Курской, Виндавской, Нижегородской и Муромской; и вагоны стояли; и не сказал бы никто: в Петербурге гремели события; наборщики всех типографий, избрав делегатов, сошлись; бастовали заводы: судостроительный, Александровский.
Циркуляция не нарушалась: мертвенно текли котелки.
Серая кариатида нагнулась и – смотрит: на ту же толпу; нет предела презрению; и нет предела – отчаянию.
Распрямились бы мускулистые руки; резцом иссеченное темя рванулось бы; в реве грохотном разорвался бы рот; паром обдало б улицу; сам балконный карниз бы распался на крепкие камни; и каменным градом на улицу оборвалося бы старое изваяние, описавши дугу...
В этот серый денек распахнулась тяжелая дверь: серый бритый лакей с золотым галуном подавал знаки кучеру; кони кинулись на подъезд, а лакей поглупел, вытянулся в струну; Аполлон Аполлонович Аблеухов, сутуловатый, согбенный, небритый, с опухшим лицом и с отвисшей губой, прикоснулся к цилиндру воронова крыла перчатками воронова крыла.
Аполлон Аполлонович бросил исполненный равнодушия взгляд на лакея, карету, на кучера, на большой черный мост, на пространства Невы, где так блекло чертились туманные, многотрубные дали и где пепельно вставал неотчетливый Остров.
Захлопнули каретную дверцу с гербом единорога; карета стремительно пролетела в туман – мимо матово-черноватого храма и памятника императора Николая – на Невский, где трепалися лопасти красного кумачового знамени; контур кареты и абрис треуголки лакея, и крылья шинели тут врезались в косматую гущу; манджурские шапки, околыши, картузы, дружно грянули пением.
Карета остановилась.
ПОШЕЛ ПРОЧЬ, ТОМ!
– «Mais j’espère que oui»8, – дзенкнула речь иностранца.
Александр Иванович подслушивать не любил.
Темнело: синело.
Шагов не расслышали. Александр Иванович переступил порог двери.
Тяжелое благовоние: смесь парфюмерии с медикаментами.
Зоя Захаровна силилась усадить какого-то иностранца.
– «Надеюсь, вы вынесли прекрасное впечатление о России... – Какой небывалый подъем?»
– «Mais j’espère...»
Зоя Флейш*151 обращала свой немного растерянный взор на француза, на Александра Ивановича; выпуклые глаза вылезали; казалася лет сорока большеголовой брюнеткою; сыпалась пудра.
– «Вам его надо?» – спросила она невзначай; в этом беглом вопросе таилась враждебность; а может быть, ненависть; по ненависть покрывала улыбка: скрывается грязь в продаваемых липко-сладких конфетах.
– «Я все-таки его подожду».
Александр Иванович потянулся за грушею; Зоя Захаровна отставила вазочку.
Груши грушами, но не в них была сила.
А, – в голосе, – запевавшем откуда-то и совершенно надорванном с недопустимым акцентом: так петь невозможно и так не поют: померещилось, что поющий – брюнет; у него вот такая вот грудь: провалившаяся; и – глаза таракана; он, верно, чахоточный: одессит или даже – болгарин из Варны, пропагандирует что-нибудь, ненавидит.
Между тем – Зоя Флейш:
– «Да, да, да: переживаем события исторической важности... бодрость и молодость... историк напишет...»
– «Pardon, madame, monsieur viendra-t-il bientut?9»
Александр Иванович чуть было не споткнулся о сенбернара, глодавшего кость.
Дачка окнами выходила на море: синело.
И – глаз маяка заморгал: «раз-два-три» – и потух; темный плащ пешехода; курчавились гребни; крупою рассыпались береговые огни; многоглазое взморье щетинилось тростником; завывала сирена.
– «Вот – пепельница...»
Но Александр Иванович был обидчивый человек, так что ткнул он окурком в цветочную вазу.
– «Поет-то там кто?»
– «Как? Не знаете?.. Ну, так знайте: Шишнарфиев... Вот что значит сидеть бирюком...»
– «Замечательно артистичен...»
Спросил всего-навсего:
– «Болгарин?»
– «Нет, нет...»
– «Персиянин?»
– «Из Шемахи, чуть не павший в резне: в Испагани...»*152
– «А...»
И – Зоя Захаровна повернулась к французу.
Александр Иванович думал о том, что черты лица Флейш были сняты с красавиц: и нос – с одной, рот – с другой, уши – с третьей красавицы.
Вместе ж – они раздражали.
Француз осадил ее:
– «Excusez, dans certains cas je prefère parler personellement...»10
Было видно, как пенились волны; раскачивалось судно, вечеровое и синее; резало мглу острокрылатыми парусами; на парусе медленно уплотнялася синеватая ночь.
К садику подъехал извозчик; и тело грузного толстяка, страдающего одышкой, неторопливо вываливалось, оберемененное полудюжиной свертков; рука как-то стала возиться над кожаным кошельком; из-под мышки над лужею выпал мешок, разрывая бумагу; антоновки покатились по грязи.
Покрытая шапкой с наушниками на грудь оседала зловещая голова; глубоко сидящие глазки не бегали, а устало уставились в стекла.
Александр Иванович успел подсмотреть (вы представьте себе!) радость, животную радость: поужинать после перенесенных трудов. Так зверь: возвращаясь в берлогу, он кажется кротким, обнаруживая беззлобие, на какое способен; он дружелюбно обнюхивает свою самку; облизывает щенят.
И это –
– «Липпанченко!..»
– «Здравствуйте...»
Пес, подпрыгнув, пал лапами
– «Пошел, Том!..»
– «Опять обслюнявил!»
Но песий язык облизнул кончик носа;
– «Томка же!»
Перестала смеяться, отрезала безо всякой учтивости:
– «Позвольте, сейчас: вот я...»
Дрогнула отвисающая губа; на губе же написано было:
– «И тут нет покою...»
Особа топталась – в углу: не снимались галоши; стояла в углу: медля снять пальтецо и копаясь в кармане; рука вылезла из кармана – с игрушкою, с Ванькой-Встанькой:
– «А вот Акулининой Маньке...»
Она обратилась к французу:
– «Пожалуйте... Вот сюда...»
И – кивнула Дудкину:
– «Повремените...»
ЛОБНЫЕ КОСТИ
– «Зоя Захаровна...»
– «А?»
– «Шишнарфиев – деятель младой Персии, артистическая натура; но при чем тут француз?»
– «Много станете знать – скоро станете стары», – не по-русски ответила, и чрезмерные перси ее заходили под лифом.
И слышалась смесь парфюмерии с приготовляемым зубом*153 (кто сиживал в зубоврачебных квартирах, тот знает: запах не из приятных).
– «А вы все... отшельником...»
– Коли я не буду отшельником, все равно: кто-нибудь да уж будет...»
Александр Иванович поправился:
– «Да и то сказать: рассеянье – не к лицу».
– «Оттого-то вы: пеплом засыпали скатерть?»
Но Александр Иванович протянулся за грушею, сказал:
– «Экая скряга...»
Дюшесы любил он, а вазы с дюшесами уже не было на столе.
– «Вот вам пепельница...»
– «Я – за дюшесом...»
Но Зоя Захаровна не предложила дюшесов.
В полуоткрытую дверь он смотрел: виднелися очертания. Французик – растараторился, а особа бубукала и хваталась за письменные принадлежности – то за ту, то за эту; чесала затылок; жест просто самообороны какой-то подметил он.
На клетчатое колено особе Том медленно положил свою морду; особа рассеянно гладила шерсть; наблюдения перебили:
– «Вы перестали бывать у нас?»
– «Да так себе: сами сказали – отшельник...»
Но золото пломбы блистало:
– «Обижены на него?..»
– «Вот еще...» – вышло – неубедительно.
– «Все обижаются. Этот
Дурной запах во рту – Александр Иванович отодвинулся.
– «А скажите», – схватилась за пульверизатор, – «где сыщете вы такого работника?.. Кто согласится, скажите, как он, отказавшись от сантиментов, стать просто Липпанченкой...»
Александр Иванович подумал: особа-то – слишком
– «Уверяю вас...»
Но она перебила:
– «Не стыдно вам так оставлять, так таиться, скрываться; ведь Колечка – рвать интимные связи...»
Тут Александр Иванович вспомнил:
– «Ну – если там выпьет, и – увлечения... Так ведь: лучшие же спивались, развратничали...»
Александр Иванович усмехнулся:
– «Что?..»
– «Нет... ничего я...»
– «Вспомните Гельсингфорс и катанье на лодках...» – в голосе Зои Захаровны послышалася грусть. – «И потом: эти сплетни...»
– «Какие?»
Он вздрогнул.
– «О Колечке сплетни!.. Вы думаете, он не терзается, не кричит по ночам (Александр Иванович запомнил –
– «Ребенок?»
– «Ребенок! Смотрите же: куколка – Ванька-Встанька», – рукой указала на куколку, просверкавши браслетом... – «уйдете: наговорите ему, а он – он!..»
– «?»
– «Посадит себе на колени кухаркину дочку: играет с ней в куклы... Его упрекают в коварстве... О, господи, он играет в солдатики!..»
– «Вот так-так!..»
– «В оловянные: выписывает из Нюренберга коробочки... Вот какой он!..»
Александр Иванович убеждался:
Круто падала узколобая голова; затаились пытливо сверлящие глазки, перепархивающие от предмета к предмету; чуть вздрагивала и посасывала губа; отвращением необоримым лицо, складываясь в
Он внимательно всматривался в гнетущие, тяжело построенные черты.
Эта лобная кость... –
Выдавалась наружу в упорстве – понять: что бы ни было, какою угодно ценою – понять или... разлететься на части; ни ярости, ни предательства не выдавал этот лобик; усилие – без мысли: понять... И понять он не мог: узенький, в поперечных морщинах; казалось, он плачет.
Пытливо сверлящие глазки... –
Поднять бы им веки, – и стали бы... – так себе... – глазками...
И они были грустными.
Л посасывающая воздух губа напоминала – ну право же! – губку полуторагодовалого молокососа; если б в губы соску, то не было б удивительно, что – посасывает; без соски движение придавало лицу скверный оттенок.
Ишь – тоже: в солдатики!
Такой разбор чудовищной головы выдавал лишь одно: голова – голова недоноска, чей хиленький мозг оброс ранее срока огромными костяными наростами; и в то время как лобная кость выдавалась наружу надбровными дугами (посмотрите на череп гориллы), под костью, может быть, уже протекал неприятный процесс, называемый в общежитии размягчением мозга.
Сочетание хилости с носорожьим упорством – сложило химеру*154: химера росла – по ночам: на куске темно-желтых обой – настоящим монголом.
НЕХОРОШО...
Странное дело!
Доселе в отношении к Александру Ивановичу поведение
И лести той верилось.
Чувствовал физиологическое отвращение; убегал от
Он знал, что
Он пытался ее поразить своим credo11 и утверждением, что Революция – Ипостась*155; против мистики ничего не имела
Но понять не могла.
Все протесты его и все крайние выводы принимала с покорным молчанием; трепала его по плечу и тащила в трактирчик: тянули коньяк; говорила
– «Я – лодка, а вы – броненосец».
И тем не менее загнала на чердак: там запрятала; броненосец стоял на верфи – без команды: все плавания ограничивались: плаванием от трактира к трактиру.
У него осталось одно впечатление: если бы вдруг понадобилась серьезная помощь, ту помощь
И сегодня представился случай.
Особа, он верил, сумеет распутать тут все.
Но тон
Нате же!..
После беседы с французом (француз удалился)
И темнело.
А в темнеющем полусумраке кабинетика пиджаком прожелтилась особа; принагнулась квадратная голова (над спиною виднелся лишь крашеный кок), подставляя широкую спину с невымытой шеей; спина как-то выдавилась; подставляясь не так: не прилично... глумливо; насмешливо разнахальничались из полусумерек – плечо и спина; ему стало противно: он – сплюнул.
Безликой улыбкой повыдавилась меж спиной и затылком глубокая шейная складка; представилась шея лицом; точно в кресле засело чудовище с вовсе безносой, безглазою харею; и представилась шейная складка – беззубо разорванным ртом.
Там, на вывернутых ногах, запрокинулось косолапое чудовище.
Александр Иванович передернул плечом и подставил спине свою спину; принялся выщипывать усики с независимым видом; хотел бы представиться оскорбленным; представился – независимым только: выщипывал усики с видом, как будто он сам по себе: ах, ему бы уйти, хлопнув дверью; уйти невозможно: от разговора зависело спокойствие Николая Аполлоновича; и стало быть: от особы зависел.
Александр Иванович подставил спине свою спину; по спина с шейной складкой была все ж спиной притягательной; он на нее повернулся; особа же, в свою очередь, повернулась, и поглядела в упор наклоненная узколобая голова, напоминая дикого кабана, готового вонзить клык; жест этого поворота кричал – очень явным желанием: нанести оскорбление; и взгляд глазок язвительно выразил:
– «Так-то вы, батенька?..»
Александр Иванович сжал в кармане кулак; отвернулся.
Он крякнул два раза, чтобы слуха
Он крякнул еще:
– «Повремените...»
Что это за тон?
Наконец
Александр Иванович растерялся; гнев выразился в суетливом забвении употребительных слов:
– «Я... видите ли... пришел...»
Но
– «Я просил бы вас, мой милейший, быть кратче...»
И, вдавивши в кадык подбородок, особа уставилась в окна:
– «А, ну-те-с?»
И прищурила глазки.
Александр Иванович Дудкин покраснел и почувствовал: больше не выдавить фразы.
Молчала
А красные листья, за стеклами, облетая, шушукались; и суки образовывали туманную сеть; черноватая сеть начинала качаться: и – черноватая сеть начинала гудеть. Бестолково, беспомощно, путаясь в выражениях, Александр Иванович излагал аблеуховский инцидент; и – суровее становилась особа; в том месте рассказа, где выступал провокатор Морковин, особа значительно дернула носом: как будто до этого места старалась действовать на совесть рассказчика, а с этого места рассказчик стал вовсе бессовестным; и терпение особы тут – лопнуло:
– «Видите?.. А вы говорили?..»
И Александр Иванович вскричал:
– «Все сказал!»
Особа же прошептала чуть-чуть:
– «Очень, очень нехорошо... Как вам не стыдно!..»
В смежной комнате появился Шишнарфиев; давил... акцент: младоперса*156; Шишнарфиев был от взора укрыт кадкой с пальмою.
Александр же Иванович чувствовал ужас; угроза в словах страшного собеседника притаилась. Он – заерзал на стуле.
А лобные кости приблизились к его лбу:
– «Должен вас охладить. Письмо к Аблеухову написано мною».
Эта тирада произнеслась с достоинством, превозмогшим себя; и – снизошедшим до... кротости.
– «Как?»
– «И шло – через вас. Или забыли?»
Слово «забыли» особа произнесла с таким видом, как будто бы Александр Иванович все это знал, но прикидывался незнающим.
– «Я его передал, уверяю вас, не Аблеухову, а Варваре Евграфовне...»
– «Полноте, Александр Иванович, батенька: письмо нашло адресата... А остальное увертки...»
– «И вы автор письма?»
– «Что же вас удивляет тут?»
– «Что меня...?»
– «Извините: я сказал бы – изумление ваше граничит с притворством...»
И Александр Иванович воскликнул: кидаясь к
– «Или я сошел с ума, или – вы...»
Особа ему подмигнула:
– «Э, батенька: видел я, как ты подсматривал... Думаешь, этак можно?..»
Сделавши вид, что свой хохот она подавила, внушительно положила
– «Нехорошо... Очень, очень нехорошо...»
И то самое, странное, гнетущее и знакомое состояние гибели перед куском темно-желтых обой, на которых – появится роковое, – его охватило: почувствовал за собою вину.
А
– «Нехорошо...»
Наступило молчание.
– «Обвинение – тяжкое; обвинение, скажу прямо, так тяжко, что...» – особа вздохнула.
– «Какие же факты?»
– «О вас: собираются...»
Этого не хватало лишь!
Вставши,
Крикнула по направлению к кухне:
– «Смерть хочется есть...»
Прошагала обратно.
– «Сидения в дворницкой... Ваша дружба с полицией, с дворником..., с участковым писцом Воронковым...»
И вопросительный взгляд, полный ужаса –
– «Не знаете, кто такой Воронков?»
– «Кто такой? Что ж из этого?..»
Но Липпанченко хохотал:
– «С сыщиком изволите видеться, с сыщиком изволите распивать».
– «Позвольте!..»
– «Факт вашего участия в провокации не установлен еще – предупреждаю по дружбе: родной, вы затеяли что-то неладное...»
– «?»
– «Отступите!»
Представилось ясно, что слово «отступите» – условие
Но едва это Александр Иванович припомнил, как то же зловещее выражение – галлюцинации – мимолетно скользнуло; и лобные кости напружились в крепком упорстве – сломать его волю: иль... разлететься на части.
И лобные кости сломали.
Александр Иванович как-то сонно поник, а
И глазки хотели сказать:
– «Э, э, э... Вот ты как?»
И слюною обрызгался рот:
– «Весь Петербург это знает...»
– «Что знает?»
– «О провале Т... Т...»
– «Как?!»
– «Да...»
Если бы
– «Господи Иисусе Христе!..»
– «Иисусе Христе!» – Издевалась
У Александра Ивановича был идиотический вид: и
– «Не прикидывайтесь, будто роль Аблеухова и причины, заставившие казнить Аблеухова поручением, вам неизвестны: паскудный паршивец успел разыграть свою роль; и расчетец был правильный, – расчетец на слюнтяйство, вроде вашего», – смягчилась
– «Расчетец был правильный: благородный, де, сын ненавидит отца, собирается, де, отца укокошить; тем временем шныряет среди нас с рефератиками, собирает бумажки, коллекцию их преподносит папаше...»
– «Николай Степанович, он – плакал...»
– «Чудак же вы: слезы – обычное состояние интеллигентного сыщика. Вы – тоже плачете... Не хочу сказать, что и вы виноваты».
(Неправда:
– «Александр Иванович, вы – чисты, но что касается Аблеухова: в этом вот ящике вот на храпенье досье: я представлю его на суд партии». В тоне слышалось неподдельное огорчение (торг заключен был удачно):
– «Впоследствии-то меня, верьте, поймут: а теперь положение вынуждает стремительно вырвать с корнем заразу...; я действую единственной волею...: верьте мне: жалко было подписывать приговор; но... гибнут десятки... из-за вашего... сенаторского сынка. И Пеппович, и Пепп арестованы... Вспомните, вы – едва не погибли. Якутскую вспомните... Вы заступаетесь? Плачьте же, плачьте. Ведь гибнут де-сят-ки!!!»
И темнота нападала; шкафы, кресла, столики; – все ушло в темноту; здесь посиживал Александр Иванович – один; темнота вошла в душу: он плакал. Особа-то вышла.
И Александр Иванович припомнил оттеночки речи
– «Енфраншиш, енфраншиш...» – что такое?
Правда, к
– Он – болен...
И темнота нападала: напала, обстала; и выступали – стол, кресло, шкаф; темнота вошла в душу – он плакал.
Тут вспомнилось: Николай Аполлонович читал рефератик, в котором ниспровергалися ценности; впечатление вышло не из приятных; и – далее: Николай Аполлонович, правду сказать, выказал любопытство к партийным секретам; с рассеянным видом дотошного мешковатого выродка во все тыкал нос: рассеянность могла быть напускной; провокатор-то высшего типа, конечно, уж мог обладать всей наружностью Аблеухова – грустно-задумчивым видом, лягушечьим выражением губ; Александр Иванович убеждался, да, да, Николай Аполлонович вел себя странно.
По мере того, как уверил себя в очень близкой причастности Аблеухова в деле провала Т. Т., грозовое, гнетущее чувство его пропадало; и что-то почти беззаботное вошло в душу; особенно он ненавидел сенатора; Николая же Аполлоновича – временами любил; а теперь и сенаторский сын объединился с сенатором в приступе отвращения и в желании тарантулово отродье – искоренить:
– «Погань, погань!.. О!.. Гибнут десятки...»
И лучше мокрицы, кусок темно-желтых обой; лучше даже
Скоро в комнату снова ввалилась
– «Ну, пойдемте же кушать... Откушайте... Только за ужином обо всем том – ни слова...: невесело... Да и Зое Захаровне нечего знать: ведь устала она... Да и я... Все порядком устали... Все – нервы... Мы – нервные люди... Ну – ужинать, ужинать...»
Пили за ужином.
СЛОВА ПЕЧАЛЬНЫЙ И ГРУСТНЫЙ
Александр Иванович звонился, но дворник не отворял; за воротами на звонок лишь ответствовал пес: подал голос на полночь полуночный петух; и – замер; и линия убегала – туда: в пустоту.
Александр Иванович испытывал нечто, подобное удовольствию; отсрачивался приход; в сих плачевных стенах раздавалися шорохи, трески и писки.
И надо было: осилить во мраке – двенадцать холодных ступенек; и повернувшися, отсчитать снова их.
Это делал четырежды.
Девяносто шесть гулких ступеней; стоять перед войлочной дверью: со страхом вложить полуржавый свой ключ. Спичку очень рискованно было зажечь: огонек мог всегда осветить просто дрянь (вроде мыши)...
Поэтому все медлил он: под воротами.
И – ну вот... – кто-то, кого Александр Иванович не раз видывал, показался опять в глубине восемнадцатой линии; тихо вступил в светлый круг фонаря, но казалось, что свет заструился от головы, от его костенеющих пальцев... –
И Александр Иванович вспомнил: однажды окликнула милого обитателя восемнадцатой линии старушонка в соломенной шляпе. И Мишей его назвала.
Александр Иванович вздрагивал, как печальный и длинный, с проходом, всегда обращал на него свой всевидящий взор, свои впалые щеки:
– «О, если бы!..»
– «Если бы выслушал!..»
Но печальный и длинный, не глядя, не останавливаясь, – прошел.
Александр Иванович обернулся и тихо хотел он позвать неизвестного.
Но то место, куда он ушел безвозвратно, – пустело.
Оттуда мигал желтый свет фонаря.
Он звонился; и ветер стенал в подворотне; напротив с размаху ударился о железную вывеску; и железо отчетливо грохнуло в темноту.
МАТВЕЙ МОРЖОВ
Заскрипели ворота.
И дворник Моржов пропустил за порог: отступление было отрезано.
– «Што позненько?»
– «Дела...»
– «Все изволите искать себе места?»
– «Да, места...»
– «Оно, натурально: местов таперь нет... Вот в участке...»
– «В участок меня не возьмут...»
– «Натурально».
Моржов засылал к Александру Ивановичу бабу, болевшую ухом, с куском пирога, с приглашением; выпивали по праздникам: в дворницкой.
Свой чердак Александр Иванович ненавидел; бывало, неделями он безвыходно сиживал в нем, когда выход казался рискован.
К компании прибавлялись: писец Воронков да сапожник Бессмертный; в последнее время же в дворницкой сиживал Степка.
Со дворика явственно слышал: из дворницкой – пели:
Кто канторщыка
Ни любит. –
А я стала бы
Любить...
Абразованные
Люди –
Знают,
Что пагаварить.,.
– «Опять гости?»
Моржов почесал свой затылок:
– «Маненечка забавляемся...»
Александр Иванович вспомнил, что имя писца Воронкова настойчиво упомянуто – там; почему-то
Купи, маминька,
На платье
Жиганету
Серава:
Уважать таперь
Я буду
Васютку
Ликсеева!
Моржов мрачно отрезал:
– «Штош... В дворницкую?..»
И зашел бы; тепло и хмельно; на чердаке – одиноко и холодно; нет: там писец Воронков; и – черт его знает! А как распевали:
Купи, маминька,
На платье
Жиганету Синева:
Уважать таперь
Я буду
Сыночка
Васильева!..
– «А то выпили б?»
– «Нет».
Уж Моржов, уходя, распахнул двери дворницкой: пар световой, гам и запах; и – бац: захлопнулась дверь.
Луна озаряла теперь четкий дворик и сажени дров, меж которых юркнул Александр Иванович, направляясь к подъездному входу.
Из дворницкой долетали слова:
Железнодорожные рельсы!..
И насыпь!.. И стрелки сигнал!
Как в глину размытую поезд
Слетел, низвергаясь со шпал,
Картина разбитых вагонов!..
Картина несчастных людей!..
Дальше не было слышно.
Александра Иваныча стерегли они... Началось это так: как-то раз, возвращаясь домой, он увидел сходящего с лестницы неизвестного, который сказал:
– «Вы с Ним связаны...»
Кто был Он? Кто связует с
И вторично – случилось: он встретил на улице человека с ужасным лицом (неизъяснимо); какая-то незнакомая дама, совсем в перепуге, схватила его за рукав:
– «Это – ужас... Вы – видели?.. Что это?..»
Человек же прошел.
Вскоре вечером, на площадке, схватили какие-то руки: толкали к перилам, пытаясь столкнуть. Александр Иваныч отбился: на лестнице было пусто...
В последнее время он слышал нечеловеческий крик... с лестницы: как вскрикнет... Вскрикнет, и более не кричит.
Но жильцы, как вскрикнет – не слышали.
Только раз слышал крик – там, у Всадника: так же кричало; то был – автомобиль; коротавший с ним ночи Степан раз слышал, как... крикнуло; на приставания к нему Александра Ивановича лишь угрюмо сказал:
– «Это вас они ищут?..»
И больше ни слова. Стал Александра Ивановича Степка чуждаться; ночевать же – ни-ни... И ни дворнику, ни сапожнику Степка – ни слова. И Александр Иванович – то же.
Кто
Александр Иванович бросил взор: к окошку на чердачном этажике; было видно: какая-то угловатая тень беспокойно слонялась в окошке; нащупал свой ключик: он – был. Кто же там, – в запертой его комнате?..
Обыск?.. О, если бы: он влетел бы на обыск. Кто спрячет его в Петропавловку, – люди.
– «Вас ищут...»
Александр Иванович дал заранее слово не ужасаться: события, какие могли совершиться, – одна мозговая игра.
МЕРТВЫЙ ЛУЧ ПАДАЛ В ОКОШКО
Так, так: там стояли
Белесоватые пятна лежали ужасно спокойно.
В пятно же вступали перила; а у перил – два очертания; пропустили его, стоя справа и слева; не шевельнулись, не дрогнули; чувствовался из темноты неморгающий глаз.
Не приблизиться ль к ним, не зашептать заклинание:
– «Епфраншиш, енфраншиш!..»
Каково вступить в белесоватое это пятно и быть освещенным, чувствуя по обе стороны от себя зоркий взгляд наблюдателя, ощутить наблюдателей за спиной, не ускорить шага.
Стоило Александру Ивановичу кинуться вверх, как за ним бы и кинулись.
Белесоватые пятна затаяли (черное облако набежало на месяц). И –
...Александр Иванович не выдержал.
Он влетел на площадку: экая нетактичность!
Он, перегнувшись через перила, теперь бросил вниз перепуганный взгляд, предварительно бросив зажженную спичку: вспыхнули прутья перил; средь мерцания явственно рассмотрел силуэты.
Один оказался Махмудкою, жителем подвального этажа; в свете падавшей спички Махмудка шептал господинчику обыденного вида, в естественном котелке с горбоносым, восточным лицом.
Спичка погасла.
И – все-таки: она выдала пребывание Александра Ивановича: вверх зашаркали ноги; над ухом теперь раздался бойкий голос:
– «Андрей Андреич Горельский?»
– «Нет, Александр Иванович Дудкин...»
– «Да, но по – паспорту...»
Александр Иванович вздрогнул; он жил по подложному паспорту; имя, отчество и фамилия; Алексей Алексеич Погорельский, а не Андрей Андреич.
– «Что вам угодно...»
– «Ваша квартира, гм, оказалася запертою... И там кто-то есть... предпочел ожидать вас у входа... Потом эта черная лестница...»
– «Кто же там?»
– «Мне оттуда ответил, как кажется, голос какого-то простолюдина...»
Слава богу: там – Степка...
– «Что вам угодно...»
– «Общие с вами друзья... – Николай Степаныч Липпанченко, где я принят, как сын... Я осмелился..., собственно, я живу в Гельсингфорсе; бываю наездом здесь; моя родина – юг...»
Александр Иванович сообразил; гость его – лжет; история повторилась когда-то (может быть, дело происходило во сне).
– «Дело не чисто; но вида не надо показывать».
– «С кем имею честь?»
– «Шишнарфнэ... Мы встречались...»
– «Шишнарфиев?..»
– «Нет, Шишнарфнэ: окончание ве, ер мне приделали – для руссицизма*157... Мы же были там вместе сегодня – да, да: у Липпанченки; два часа я сидел, ожидая, когда вы покончите деловой разговор; и не мог вас дождаться... А Зоя Захаровна дала адрес. Ищу с вами встречи...
– «Мы и прежде встречались?»
– «Да... помните?.. В Гельсингфорсе...»
Александр Иваныч припомнил: он видел его в гельсингфорсской кофейне; лицо с Александра Иваныча не спускало своих подозрительных глаз.
– «Да, да: помните?»
Именно: в Гельсингфорсе и началися все признаки угрожавшей болезни; внушенная мозговая игра.
В тот период пришлось развивать ему парадоксальнейшую теорию о необходимости разрушить культуру; период изжитого гуманизма закончен; история – выветренный рухляк: наступает период здорового варварства, пробивающийся из народного низа, верхов (бунт искусств против форм и экзотика), буржуазии (дамские моды); да, да: Александр Иванович проповедовал сожжение библиотек, университетов, музеев, призвание монголов (впоследствии он испугался).
Тогда это все проповедовал он в гельсингфорсской кофейне; и кто-то спросил: как отнесся бы он к сатанизму.
За столиком, сбоку, сидел Шишнарфнэ.
Проповедь варварства кончилась неожиданно (в Гельсингфорсе же); Александр Иванович увидал (в засыпании), как помчали его через то, что можно назвать всего проще междупланетным пространством, для совершения некого гнусного акта*158; то было во сие, но во сне безобразном, влиявшем на прекращение проповеди; Александр Иваныч не помнил, свершил ли он
Напоминание о Гельсингфорсе подействовало; невольно подумал он:
– «Вот отчего все последние эти недели твердилось без всякого смысла мне: Гель-син-форс, Гель-син-форс...»
– «Шишнарфнэ... Где-то это я знаю...»
А Шишнарфнэ продолжал:
– «Вы позволите мне к вам зайти?.. Я, признаться, устал, поджидая...»
В припадке невольного страха теперь Александр Иванович выкрикнул:
– «Милости просим...»
Подумал же:
– «Степка там выручит...»
– «Как мог зайти он: ведь ключ у меня?»
Но, ощупав карман, убедился: ключа-то и не было, вместо дверного ключа был ключ чемодана.
ПЕТЕРБУРГ
На козлах постели расселся Степан над огарком: перед книгой с церковнославянскими буквами.
Александр Иванович вспомнил теперь обещание Степки: с собой принести ему Требник*159 (интересовала молитва – Василия Великого: увещательная, к бесам*160).
– «Степан: ну, я рад!»
– «Вот принес я вам, барин...» – но, поглядев на вошедшего посетителя, Степка прибавил, – что там просили...»
– «Не уходи, посиди... Этот барин вот господин Шишнарфнэ...»
Тут огарок сгорел: вспыхнула оберточная бумага, и стены плясали в огне.
– «Нет, барин, увольте: пора», – суетился Степан, закосясь и не глядя на гостя.
Он взял с собой Требник.
Как быть – со Степаном? Степан не простит; и Степан теперь думает:
– «Коли уж
Стало быть, стало быть, Степан полагает? Как быть – без Степана:
– «Степан, оставайся».
– «Ведь к
– «Это вас они ищут...»
И за Степаном захлопнулась дверь. Александр Иванович хотел крикнуть вдогонку, чтобы оставил он Требник-то, да... устыдился. А пламена, проплясав, умирали на стенах; сгорела бумага: и все – зеленело...
Попросил посетителя он усесться у столика; сам стал в дверях, чтобы при случае оказаться на лестнице и припереть посетителя.
Посетитель же опирался на подоконник, курил папироску; и контур его прочертился на фоне зеленых сквозных заоконных пространств (там бежала луна)...
– «Я, по-видимому, вас беспокою...»
– «Ничего, очень рад», – успокаивал Александр Иванович, пробуя рукой ручку двери.
– «Но... я так собирался... Тем более, что уезжаю чуть свет».
– «Уезжаете?»
– «Да, в Финляндию, в Швецию... Впрочем, родина моя – Шемаха; климат же мне вреден...»
– «Да», – ответствовал Александр Иванович, – «Петербург – на болоте...»
Контур же как сорвется:
– «Для русской же империи Петербург – это пунктик... Возьмите-ка карту... Столичный наш город, украшенный памятниками...»
– «Вы говорите: столичный наш город... – не ваш же: столичный ваш город есть, кажется, – Тегеран... Вам, восточному человеку...»
– «Да нет, был в Париже и в Лондоне... Да: что столичный наш город», – частил черный контур, – «принадлежит к стране сновидений – об этом не принято вспоминать при составлении указателей; помалкивает Карл Бедекер*161; провинциал, не осведомленный, считается с явной администрацией; а теневого паспорта нет у него».
– «То есть как?»
– «Очень просто: в стране папуасов я знаю, что ждет: папуас! Карл Бедекер предупреждает. Что было бы, если бы по дороге в Кирсанов я встретился бы со становищем папуасской орды; впрочем, Франция под шумок вооружает их, вводит в Европу*162 – увидите: это на руку – вашей теории ниспроверженья культуры: вы помните?.. В гельсингфорсской кофейне я слушал с сочувствием!»
Александру Ивановичу было гнусно выслушивать ссылку на эту теорию; после ужасного сна связь теории с бредом была им осознана.
Контур на фоне окна все тончал; он казался лишь листиком черной бумаги, наклеенным на рамс окна; голос же раздавался посередине отчетливого комнатного квадрата, заметнейшим образом передвигался от окна по направлению к Александру Ивановичу; самостоятельный, невидимый центр!
– «Папуас – существо земнородное. С папуасом столкуетесь – при помощи спиртного напитка, которому отдавали вы честь все последние дни и который создал пашу встречу; и кроме того: в Папуасии существуют какие-нибудь институты, одобренные папуасским парламентом...»
Посетитель стал слоем лишь копоти на луной освещенном стекле; между тем: его голос крепчал, принимая оттенок хрипящего, граммофонного выкрика:
– «Биология сновидения еще не изучена; требований ее не поймешь; она входит бациллами, проглатываемыми с водопроводной водою...»
– «И с водкою», – вставил уже от себя Александр Иванович, и – невольно подумал: «Что я? Или – клюнул на бред? отозвался, откликнулся?» Мысленно же он решил: «отмежеваться от ахинеи; если он ахинею сейчас не разложит сознанием, то сознание разложится в ахинею...»
– «Нет-с: водкою вы в себя меня вводите... С водой же проглатываете бациллы, а я – не бацилла; ну вот: с первых дней петербургского пребывания не варит желудок: грозит холерина*163: и следуют казусы, от которых уже не избавят вас жалобы в петербургский участок; тоска, галлюцинации, мрачность – все следствия холерины: идите же в
– «Издевательство это», – подумал он.
– «Словом, жалобы, обращенные в видимый мир, – без последствий, как всякие жалобы... Трагедия в том, что мы – в мире невидимом: в мире теней».
– «Есть такой?» – выкрикнул Александр Иванович, собирался ускочить из каморки и припереть посетителя, становившегося все субтильнее: в комнату вошел человек, имеющий все три измерения; прислонился к окну, и – стал контуром (или – двухмерным), стал тонкою слойкою копоти, наподобие той, которая выбивает из лампы; теперь эта черпая копоть истлела вдруг в блещущую луною золу; а зола – отлетала: и контура не было; вся материя превратилася в звуковую субстанцию, трещавшую – только вот где? Александру Ивановичу показалося: в нем самом затрещало уже.
– «Господин Шишнарфнэ», – говорил Александр Иваныч пространству (а Шишнарфнэ-то ведь не было).
И трещал, отвечая себе самому: – «Петербург: четвертое измерение, не отмеченное на картах, отмеченное лишь точкою; точка же – место касания плоскости бытия к шаровой поверхности громадного астрального космоса – точка во мгновение ока способна нам выкинуть жителя четвертого измерения, от которого не спасет и стена; за минуту я был – в точках у подоконника, а теперь появился я...»
– «Где?» – хотел воскликнуть Александр Иванович, но воскликнуть не мог, потому что воскликнуло его горло:
– «Появился... из вашей гортани...»
Александр Иваныч растерянно посмотрел вокруг себя, в то время как горло выкидывало:
– «Тут надо паспорт... Впрочем, вы там прописаны: паспорт – в вас вписан; сами вы в себе распишитеся экстравагантным поступочком; он – придет, он придет».
Если со стороны в ту минуту он мог бы взглянуть на себя, он пришел бы, наверно, в ужас: увидел бы он себя самого, ухватившегося за живот и с надсадой горланящего в пустоту*165: пред собою:
– «Когда же у вас там прописан?»
– «Тогда: после акта», – ответил ему его рот.
И внезапно разверзлась завеса: и – вспомнил... тот сон; в Гельсингфорсе, когда они мчали через какие-то.., все же... пространства...
И он совершил.
Соединился он с ними; Липпанченко был лишь образом, намекавшим на это; вошла в него сила их; перебегая от органа к органу и ища в теле душу, она понемногу овладевала им всем.
И пока это делалось, думал он, что они его ищут; они были – в нем.
– «Да, наши пространства не ваши; течет там в обратном порядке... Иванов – японец какой-то: Вонави».
И понял он: «Шишнарфнэ – Шиш-нар-фнэ...»
Из аппарата гортани ответило:
– «Ты позвал меня... Вот и я...»
Пришло
Александр Иванович выскочил из собственной комнаты: и – щелкнул ключ.
– «Да, да... Это – я... Я – гублю без возврата...»
Луна осветила: и в совершеннейшей темноте проступили едва, чуть наметились сероватые, серые, белесоватые, бледные, фосфорически горящие пятна.
ЧЕРДАК
Чердак не был заперт; туда Дудкин бросился.
На чердаке ночью странно: пол густо усыпан землею; ты – ходишь по мягкому; вдруг: бревно подлетит тебе под – ноги; и усадит тебя на карачки; и тянутся поперечные полосы месяца, будто белые балки: проходишь сквозь них.
Вдруг... –
Бревно наградит тебя в нос.
Неподвижные, белые пятна – кальсон, полотенец и простынь; порхнет ветерок – и без шума протянутся пятна: кальсон, полотенец и простынь.
Александр Иванович притаился: вздохнул облегченно.
Через разбитые стекла услышалась песня:
Купи, маминька, на платье
Жиганета синева.
Александр Иваныч прислушался; что мог он слышать? Ты знаешь: отчетливый звук растрещавшейся балки; густое молчание, или – сплетенная сеть из одних только шорохов: в углу шики и пшики; и – напряжение атмосферы неслышных шагов; и – глотанье слюней: губошлёпа.
Словом, – все обыденные звуки, бояться их – нечего.
Уходить с чердака не хотелось: ходил средь кальсон, полотенец и простынь; просунул он голову из стекольных осколков: успокоением, миротворною грустью дохнуло.
Яснели – отчетливо, ослепительно просто: весь четкий дворовый квадрат, показавшийся малым, игрушечным, серебристые сажени дров; еще в дворницкой веселились; охриплая песенка раздавалась из дворницкой:
Вижу я, господи, свою неправду*166:
Кривда меня в глаза обманула,
Кривда мне глаза ослепила...
Возжалел я своего белого тела,
Возжалел я своего цветного платья,
Сладкого яствия,
Пьяпого пития –
Убоялся я, Понтий, архиереев,
Устрашился, Пилат, фарисеев.
Руки мыл – и совесть смыл:
Невинного предал на пропятье...
Это пели: писец Воронков и подвальный сапожник Бессмертный. Александр Иваныч подумал: «Спуститься бы к ним?»
Небо чистилося: островную крышу под ним ослепительно заливала серебряная струя.
И бурлила Нева.
И кричала отчаянно там свистком запоздалого пароходика, от которого виделся убегающий глаз фонаря; простиралася набережная; над коробками желтых, серых, коричнево-красных домов, над колоннами серых, коричнево-красных дворцов, рококо и барокко, возделися темные стены громадного храма, заостренного в мир луны золотым своим куполом, колоннадой: Исакий...
И побежало под небо стрелою Адмиралтейство.
Пустела вся площадь.
На скалу упали и звякнули: металлические копыта; конь фыркал ноздрей: в раскаленный туман; очертание Всадника отделилось от конского крупа; звенящая шпора царапнула конский бок.
Конь слетел со скалы.
Понеслось
Полетела за линией линия, кусок левого берега: пристанями и трубами, свалкой пенькою набитых мешков; полетели пустырь, баржи, заборы, брезенты и многие домики; блеснул бок из тумана: того непокойного кабачка.
Самый старый голландец здесь выгнулся от дверного порога – в холодную свистопляску; фонарь тихо вздрагивал под синеватым лицом в черном кожаном капюшоне: услышало ухо голландца то конское цоканье, потому чго голландец покинул таких же, как он, корабельщиков, что звенели стаканами от утра до утра.
Знать, он знал, что до самого тусклого утра протянется пир; знать, он знал, что когда отобьет уже полночь, на звоны стаканов опять – прилетит крепкий Гость: опрокинуть стакан огневого аллашу*167: пожать двухсотлетнюю руку, которая с капитанского мостика повернет пароходное колесо от погибельных фортов Кронштадта; вдогонку корме, не ответившей на сигнал, бросит рев жерло пушки.
Судна не догнать: войдет в низкое, к морю прилегшее облако.
Знал все голландец: разглядывал абрис летящего Всадника... Цоканье слышалось; фыркали ноздри, которые проницали, пылая, туман световым, раскаленным столбом.
Александр Иванович отошел от окна, успокоенный, усмиренный, озябший; заколыхалися белые пятна – кальсон, полотенец и простынь.
Теперь он решился вернуться.
ПОЧЕМУ ЭТО БЫЛО...
Он сидел на постели; и отдыхал от кошмара: тут был посетитель; и тут – проползала мокрица: теперь посетителя не было; за галлюцинацией следовал просвет.
Как месяц светило сознание: вперед и назад.
Посреди четырех своих стен он себе самому показался лишь пойманным узником, если пойманный узник не более всех ощущает свободы, и если не мировому пространству был равен тот тесненький промежуток из стен.
Мировое пространство пустынно, как комната!.. Мировое пространство – последнее достижение богатств... Обиталище нищего показалось бы роскошью перед нищенской обстановкою мирового пространства.
Александр Иванович, отдыхавший от бреда, мечтал, как над чувственным маревом встал он.
Голос же возражал:
– «Водка?»
– «Курение?»
– «Любострастные чувства?»
Поник головой; оттого – и болезни, и страхи, преследования: от бессонницы, папирос, злоупотребленья напитками.
Приступ острого помешательства осветился по-новому; правду острого помешательства знал; помешательство стояло отчетом его разболевшихся органов чувств – самосознающему «Я»; Шишнарфнэ символизировал анаграмму*168; не он настигал и преследовал, а настигали «Я» органы*169; алкоголь и бессонница грызли телесный состав; он был связан с пространствами; стал распадаться – пространства растрескались; в трещины ощущения заползали бациллы; в пространствах – зареяли призраки... Кто Шишнарфнэ? Изнанка абракадабры, иль – Енфраншиш; сон от водки; так; Енфраншиш, Шишнарфнэ – только стадии алкоголя.
– «Не курить бы, не пить».
Вдруг он – вздрогнул.
Он предал: Николая Аполлоновича уступил из страха Липпанченко; вспомнилась безобразная купля-продажа: не веря, поверил; и в этом – предательство; более предатель – Липпанченко; что он их предавал, Александр Иванович – знал; но таил от себя свое знание (Липпанченко над душой имел власть); в этом – корень болезни: в узнании, что – предатель Липпанченко; алкоголь и разврат – лишь последствия; галлюцинации довершали лишь звенья той цепи, которую Липпанченко сковывал. Почему? Потому что Липпапченко знал, что он –
Липпанченко поработил его волю; порабощение воли произошло оттого, что ужасное подозрение все хотел он рассеять; и гнал подозренье в общенье с Липпанченко; подозревая о подозрении, Липпанченко не отпускал ни на шаг; так связались друг с другом; вливал он в Липпанченко мистику; а Липпанченко в него – алкоголь.
Александр Иванович вспомнил отчетливо сцену с Липпанченко; циник, подлец – обошел; и вспомнилась шея Липпанченки: с гадкой складкой; и шея нахально смеялась, пока Липпанченко не поймал взгляд на шее; поймав взгляд на шее, все понял.
Принялся запугивать: ошеломил нападением; и – перепутал все карты; потом предложил ему выход: поверить в предательство Аблеухова.
Он – поверил; и акт – совершил; дело было исполнено.
Вот о чем был кошмар.
Александр Иванович перевел тот кошмар на язык своих чувств; лестница, комнатушка, чердак были телом: метущийся обитатель пространств, на которого нападали, который от них убегал – самосознающее «Я», тяжеловлекущее отпавшие органы; Енфраншиш – инородная сущность, вошедшая в обиталище – с водкою: развиваясь бациллою, перебегал он от органа к органу; вызывал ощущенья преследования, чтобы, ударившись в мозг, вызвать там раздражение.
Припомнилась первая встреча: с Липпанченко; впечатление – не из приятных; Липпанченко выказывал любопытство ко всем слабостям с ним в общение вступавщих людей; провокатор, конечно же, мог обладать мешковатой наружностью, парой немысленно моргающих глазок.
По мере того, как он медленно углублялся в Липпанченко, в созерцание частей его тела, замашек, повадок, смешков, перед ним вырастал – настоящий тарантул.
И что-то стальное вошло к нему в душу:
– «Я знаю, что сделаю».
Все – окончится: как не пришло ему раньше; и – миссия начерталась.
Вдруг... –
ГОСТЬ
Александр Иванович слыхал: звук – грянул снизу; и повторился на лестнице: раздался удар за ударом; удары металла, дробящие камень – все выше, все ближе: какой-то громила громил внизу лестницу; прислушивался, не отворится ль дверь, чтобы унять безобразие.
К площадке шел вверх (металлический кто-то); теперь сотрясающим грохотом падало много пудов: обсыпались ступени; и – вот: пролетела у двери площадка.
И – треск: стремительный; дверь с петель – слетела; и – тусклости проливалися дымными, раззелеными клубами; от раздробленной двери, с площадки, теперь начинались пространства луны; и черная комната открывалась – в неизъяснимости; посередине дверного порога, из стен, пропускающих купоросного цвета пространства, – склонивши венчанную, позеленевшую голову и простирая тяжелую позеленевшую руку, стояло громадное тело, горящее фосфором.
Встал Медный Петр.
Плащ матовый отвисал тяжело – с отливающих блеском плечей и с чешуйчатой брони; теперь повторилися судьбы Евгения*170 – в миг, как распаяйся стены здания в купоросных пространствах; так точно: разъялось прошедшее; и Александр Иванович воскликнул:
– «Я – вспомнил... Я – ждал...»
Медноглавый гигант прогонял чрез периоды времени вплоть до этого мига, смыкая весь круг; протекали века; и встал – Николай; и вставали на троп – Александры*171; а Александр Иванович, тень, без устали одолевала периоды времени, пробегая по дням, по годам, по сырым петербургским проспектам, – во сне, наяву: а вдогонку за ним и вдогонку за всеми, – гремели удары металла, дробящие жизни.
Тот грохот я слышал; ты – слышал ли?
Аполлон Аполлонович – удар камня; и Петербург – удар камня; кариатида, – которая оборвется, – удар; неизбежны – погони; и – неизбежны удары; на чердаке не укроешься; весь чердак – от Липпанченки; и чердак – западня; проломить, проломить его – ударами... по Липпанченке!
Под ударами разлетится Липпанченко; чердак – рухнет; разрушится – Петербург; кариатида – разрушится, и голая голова Аблеухова – рассядется надвое.
Медный Гость сказал ему:
– «Здравствуй, сынок!»
И – три шага: три треска рассевшихся бревен; и металлическим задом своим гулко треснул по стулу литой император; и зеленеющий локоть всей тяжестью меди валился на стол колокольными звуками; медленно снял с головы император свой медный венок; лавры грохотно оборвались.
И бряцая, и дзанкая, докрасна раскаленную трубочку повынимала рука; и – указывала глазами на трубочку; и – подмигнула на трубочу:
«Petro Primo Catherina Secunda...»13
Всунула в губы: зеленый дымок распаявшейся меди отчетливо закурился под месяцем.
Александр Иваныч, Евгений, впервые тут понял: столетие пробежал понапрасну: от декабря к октябрю*172: а за ним громыхало без всякого гнева – по деревням, городам, по подъездам, по лестницам; он – прощенный; все бывшее совокупно с навстречу идущим – лишь призрачные прохожденья мытарств до трубы*173.
В медных впадинах Всадника вспыхнула медная дума: упала дробящая камни рука, – раскалялся докрасна; и – сломала ключицу:
– «Умри, потерпи...»
Металлический Гость, раскалившийся под луною, сидел перед ним; опаляющий, красно-багровый; вот он, прокалясь, побелел; и – протек на склоненного Александра Ивановича: пепелящим потоком: металлами – пролился в его жилы.
НОЖНИЦЫ
– «Что такое?»
И – красное прочь ползло по подушке пятно – брр: мелькнуло в сознании:
– «Клоп...»
Приподнялся на локте:
– «Ты, Степка?»
Он видел: и чайник, и чашку.
– «Как славно: чаек».
– «Что за славно: горите вы...»
С удивленьем заметил он, что он не раздет; даже не было снято пальтишко.
– «Ты тут как?»
– «Зашел; вы – лежите и стонете; разметались... горите – в огне».
– «Да я, Степка, здоров».
– «Уж какое здоровье!.. Я тут вам чайку!»
Ночью в жилах его протекал кипяток (это вспомнил) .
– «Да, жар, братец мой, ночью был основательный...»
– «Ат алхаголю и сваритесь».
– «Были чертики, были...»
– «Допьетеся до Зеленого Змия...»
– «И вся, друг, Россия...»
– «Ну?»
– «От Зеленого Змия...»
– «Христова Рассея...»
– «Ты – брешешь...»
– «Допьетесь –
Белая горячка – подкрадывалась: сомнения не было.
– «Сбегал бы ты до аптеки... Купил бы ты мне хинки: солянокислой...»
– «Что ж, можно...»
– «Да, Степушка, заодно и малинкн: малинового варенья – мне к чаю».
Сам думал:
– «Малина – прекрасное потогонное средство». – Едва он умылся, внутри снова вспыхнуло, перепутывая действительность с бредом.
Пока говорил он со Степкой, казалось ему, что за дверью его поджидало: исконно – знакомое. Там – за дверью? Туда проскочил он; за дверью – открылась площадка; да лестничные перила повисли над бездной; и Александр Иванович над бездной прищелкивал сухим языком, вздрагивая от озноба. Какое-то ощущение меди: во рту:
– «Нет, – оно поджидает на дворике...»
Но на дворике: никого, ничего.
Обежал закоулки, проходики (между кубами сложенных дров); серебрился асфальт; серебрились осины: и – . никого, ничего.
– «Где ж оно ?»
– «В металлическом месте...»
Оно – снова явится.
' Оставалась память о памяти; и – о деле, которое отлагательств не терпит.
Пружинными побежал он шагами к туманному перекрестку двух улиц; из окон выпрыскивал блеск...
И сияли предметы.
Действительно: на углу перекрестка – дешевенький магазинчик: ножей, вилок, ножниц.
Вошел.
Из-за грязной конторки к сиявшему сталью прилавку приволочилася сонная харя (то – собственник сверл, пил); круто падала узколобая голова:
– «Мне бы, мне бы...»
И, не зная, что взять, Александр Иванович зацепился рукою за зубринку пилочки: завизжало. Хозяин оглядывал исподлобья; не удивительно: Александр Иванович как лежал в пальтеце на постели, так – выскочил: пальтецо было смято и смазано грязью; и шапки-то он не надел; а вихрастая голова напугала бы всякого.
И хозяин, перемогая себя, пробубукал;
– «Пилу?»
– «Нет, знаете ли, пилу – неудобно, пилою... Мне, знаете, финский бы...»
Но особа отрезала:
– «Ножей нет».
Как будто бы глазки сказали:
– «Дать ножик, так вы еще... натворите делов...»
Сходство какое-то поразило его; тут фигура хозяина повернулась спиной; и окинула взором, от которого повалился бы бык.
– «Ну, все равно: ножницы...»
То, что намеревался он – было в сущности: чирк!
Он затрясся над ножницами:
– «Не завертывайте – нет, нет... Я живу тут поблизости... Мне и так: донесу я и так...»
Так сказав, он засунул в карман миниатюрные ножницы, которыми франтики стригут ногти; и – бросился.
Удивленно, испуганно поглядела квадратная, узколобая голова (из-за блещущего прилавка) в крепчайшем упорстве – понять, что бы ни было, какою угодно ценою: понять, или...
Лобная кость все понять не могла; лоб был узенький, в поперечных морщинах; казалось, – он плачет.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ,
или: происшествия серенького денька все еще продолжаются.|
Устал я, друг, устал: покоя сердце просит, Летят за днями дни...*174 |
БЕЗМЕРНОСТИ
Мы оставили Николая Аполлоновича в момент, когда Дудкин пожал ему руку, проворно шмыгнув в черный ток котелков, а Николай Аполлонович чувствовал, что он – расширяется.
До этого мига в душе его громоздились массивы из бредов; чудовищные Гауризанкары событий*175 обрушились – в двадцать четыре часа: Летний сад, красный шелк, бал (и арлекины и шутики), желтогорбый Пьеро, голубая какая-то маска, записочка, бегство к отхожему месту, паршивенький господин и, – Пепп Пеппович Пепп, иль: сардинница, которая... все еще... тикала.
Сардинница, способная превратить все вокруг в... словом – в слякоть.
Оставили Николая Аполлоновича у магазинной витрины; но мы его бросили; меж сенаторским сыном и нами закапали капельки накрапывающего дождя.
Распускали зонты.
Николай Аполлонович стоял у витрины и думал: имени тяжелому безобразию – нет: безобразие длилося, двадцать четыре часа, или – восемьдесят тысяч секундочек, точек во времени: каждое мгновение наступало; и на него наступали: мгновение, как-то прытко раскинувшись но кругам, превращалось медлительно в разбухающий шар; шар этот лопался, а пята ускользала в пустоты: так странник по времени рушился, неизвестно куда и до... нового мига.
Да, имени тяжелому безобразию – нет!
Заколотились какие-то думы, не вставшие л мозге и вставшие в сердце.
Вставал остроумнейший, проработанный план; и – сравнительно – план безопасный, но... подлый: да... подлый!
Но мог ли до этого плана додуматься Николай Аполлонович?
Все последние часы пред глазами маячили кусочки из мыслей, переливавшиеся звездистыми искрами, как веселые канители рождественской елочки: безостановочно падали в сознанием освещенное место – из темноты в темноту; то кривилась фигурка шута, то носился галопом лимонный Петрушка – из темноты в темноту – по сознанием освещенному месту; сознание же светило бесстрастно роящимся образом; когда же впаялись друг в друга, сознание начертало на них потрясающий, нечеловеческий смысл; Николай Аполлонович плюнул от отвращения:
– «Я отъявленный негодяй...»
Но к такому же убеждению приходил и папаша.
Нет, нет!
А какие-то были рои себя мысливших мыслей; и мыслил не он, но... себя мысли мыслили...: – мыслилось, рисовалось, вставало; и прыгало в сердце, сверлило в мозгу; возникало оно над сардинницей; переползло из сардинницы; он припрятал сардинницу – кажется... в столик; и выскочил из проклятого дома: крутился по улицам.
Но на улицах все еще продолжало вставать, формируя, рисуя, вычерчивая; если мыслила голова, то она превратилася тоже в сардинницу, которая... тикала мыслями.
Так продуманный план появился на поле сознания – в неподходящий момент, когда Николай Аполлонович, забежавший в переднюю Университета (где церковь), небрежно склонился к одной из колонн, беседуя с захожим доцентом: в душе его лопнуло (лопается водородом надутая кукла на дряблые куски целлулоида); вздрогнул, откинувшись, вырвался, сам не зная куда, потому что открылся: –
– автор плана-то – он...
Он бросился на Васильевский Остров по направлению к восемнадцатой линии;. в спину извозчику раздавался прерывистый шепот:
– «Скажите пожалуйста?.. А?.. Притворщик... обманщик... убийца...: спасти свою шкуру...»
Он выскочил из пролетки, пересекая асфальтовый дворик и сажени дров, пролетел там по лестнице; и – неизвестно зачем; вероятно, из любопытства: взглянуть в глаза Дудкину, притащившему узелок, потому что «
И тут-то столкнулся он с Дудкиным: остальное мы видели.
Да, – но сердце его, разогретое всем, бывшим с ним, стало медленно плавиться: бились в нем чувства; – они потрясли, перевернули всю душу.
Громадину дома, которая громоздилась над улицей грудами, перебежав мостовую, он мог бы рукою нащупать; как только пустился накрапывать дождик, в тумане заплавал тот бок.
И громадина камней уже расцепилась; она поднимает – из дождика – кружево контуров и едва обозначенных линий – какое-то рококо: рококо уходит в ничто»
Мокрый блеск заяснел на витринах, на окнах, на трубах; и первая струечка хлынула из водосточной трубы; тротуары пошли мелким крапом; бурели; и фыркала грязью летящая шина.
Пошло и пошло...
В мокроте, понакрытый зонтами прохожих, стоял Николай Аполлонович; голова закружилась его: прислонился к витрине; и – встал кусок детства.
У гувернантки – он видит, покоится голова его; старушка читает:
Wer reitet so spat durch Nacht und Wind?*176
Es ist der Vater mit seinem Kind...
За окнами – буревые порывы: бунтует там мгла; там – погоня.
Опять... –
Аполлон Аполлонович – маленький, седенький, старенький, – Коленьку обучает французскому контрдансу, отсчитывая шажки, выбивая ладонями такт; и вместо музыки он отрезывает – скороговоркою:
Кто скачет, кто мчится под хладною мглой*177?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой...
Погоня – настигла:
В руках его мертвый младенец лежал..,
ЖУРАВЛИ
Николаю Аполлоновичу захотелось на родину: в детскую. Надо было все, все – отрясти; надо было – всему, всему научиться, как учатся в детстве; раздался звук детства. Высоко летящие журавли – в грохоте горожане не слышат их; а они пролетают над городом. Где-нибудь, на Проспекте, в пролетках и в гвалте газетчиков, где поднимается горло автомобиля, – вот тут, на панели, как вкопанный, обитатель полей – остановится; бородатую головку набок он склонит:
– «Тсс!..»
– «Что такое?»
– «Послушайте...»
– «Что?..»
– «Там... кричат... журавли».
И сперва ничего не услышишь; потом – ты услышишь: родимый, забытый – звук: странный...
Кричат журавли.
Поднимаются головы: третий, пятый, десятый.
Среди голубого всего проступает – знакомое что-то: на север... летят... журавли!
И – кольцо любопытных; и тротуар – запружен; городовой пробирается: не сдержал любопытства; остановился и голову запрокинул он:
– «Журавли!..»
Так курлыканье журавлей над тяжелыми крышами – нет-нет – да раздастся! И так голос детства.
И кто-то печальный, кого Николай Аполлонович ни разу не видывал, точно вступил в него; стал пронизывать светлый свет его глаз. Николай Аполлонович вздрогнул:
– «Вы все меня гоните!..»
– «Что», – попытался расслышать он голос тот:
– «Я за всеми вами хожу...»
Николай Аполлонович окинул глазами пространство, будто он ожидал увидеть обладателя голоса.
Обладателя голоса не было.
Кто это там? Вон на той стороне? У громадины дома? Под грудой балконов?
Стоит.
Как и он, у магазинной витрины: с распущенным зонтиком... смотрит... как будто; лица же нельзя разобрать; что особенного? На этой вот стороне – Николай Аполлонович. Ну и тот – ничего себе: то же: случайный прохожий; посматривает с независимым видом: я сам, де, с усами!.. Нет, – бритый...
Очертание пальтеца напоминает, но... что?
И – в каком-то картузике.
Не подойти ли к нему, обладателю картуза?
Посмотреть на предметы, которые там... под стеклом: за витриной...
При случае мельком окинуть притворным, рассеянным, а на самом деле внимательным оком, – его!
На панели пасть ниц!
– «Я – больной, я глухой... Успокой меня!»
И услышать в ответ:
– «Встань...»
– «Иди...»
– «Не греши...»
Нет, конечно, ответа не будет.
И ничего не ответит печальный: ответов не может быть; будут после – через час, через год, через пять, а пожалуй и более – .через сто, через тысячу лет; ответ – будет!
Изменится во мгновение ока все эго. И все незнакомцы прохожие, – те, которые друг перед другом прошли (где-нибудь в закоулке) в минуту смертельной опасности, все они встретятся!
Этой радости встречи никто не отнимет.
Я, СЕБЕ, ИДУ... Я, СЕБЕ, НИКОГО НЕ СТЕСНЯЮ
– «Что это я», – подумал Николай Аполлонович, – «замечтался не вовремя...»
Время идет, а сардинница – тикает; прямо бы к столику; бережно завернуть все в бумагу: в карман, да в Неву...
И уже отводил он глаза от громадины дома, где незнакомец с распущенным зонтиком.
И опять посмотрел.
Незнакомец не двинулся с места; он ждал: окончания дождика; вдруг – попал в людской поток – в эти пары, в четверки.
– «А ну его, незнакомца – вот тоже!»
Едва он подумал, как любопытный картузик сызнова стал выясняться пред ним; и, рискуя попасть под извозчика, перебежал мостовую он, с зонтиком, вырываемым ветром.
Ну, как отвернуться тут? Как идти себе прочь?
– «Так вот он какой из себя?»
Незнакомец был издали авантажней, грустнее, медлительней.
– «Э!.. Да помилуйте: идиотский вид? Ай, картузик – бежит: пальтецо трепыхается, зонтик прорванный, и калоша – не по ноге...»
Николаи Аполлонович почувствовал неприязнь; и уже собирался посторониться, как незнакомец (едва не столкнулись носами) поднял к картузу свою руку:
– «А? Ни-ко-лай А-пол-ло-но-вич!!»
Николай Аполлонович заприметил: субъект (может быть, из мещан) перевязал себе горло: на горле был чирий, наверно.
– «Вы, кажется, не узнаете меня?»
– «С кем имею честь», – начал было Николай Аполлонович, но, приглядевшись, откинулся, скинул шляпу, воскликнул с перекривленным лицом:
– «Да какими же это способами?..»
Он хотел, вероятно, воскликнуть: «какими судьбами...»
В случайном прохожем, имеющем вид попрошайки, Сергея Сергеевича все же узнать было трудно: Лихутин облекся в партикулярное платье; и Лихутин был выбрит: торчала прыщавая пустота, превративши знакомую физиономию в незнакомую.
– «Или глаза изменяют мне, но... Сергей Сергеевич...»
– «Совершенно верно: я – в штатском...»
– «Не это... Не тем... Изумительно все же...»
– «Что?»
– «Вы как-то преобразились: вы извините...»
– «Пустяки-с...»
– «Так себе... Я хотел сказать: выбрились...»
– «Э, что там, – отчего же нет? Ну, побрился...»
– «Ну и пусть», – не угомонялся Лихутин. – «Я службу бросаю...»
– «Как?.. Почему?..»
– «По причинам приватным».
Лихутин тут стал придвигаться.
Николай Аполлонович стал явственно пятиться:
– «Есть дела, Сергей Сергеевич?»
– «Дела, которые, сударь...»
Явственно зловещую ноту уловил Николай Аполлонович в хриплом голосе подпоручика; Аблеухову показалось, что Лихутин старается изловить его руки.
И – соскочил с тротуара.
Сергей Сергеевич – за ним, чтоб... чтоб... чтоб... Некоторые из прохожих – смотрели:
– «Не для того я за вами бежал, чтобы мы говорили о какой-то там шее...»
Остановился третий, пятый, десятый, подумавши, что изловлен воришка.
– «В чем же дело?»
Где была память?
О
А Софья Петровна Лихутина, без сомнения, поразболтала о случае у Зимней Канавки:
– «Недоставало вот этого... Как все это некстати...»
И Николай Аполлонович, избегая взгляда Лихутина, уткнулся в витрину.
Между тем Сергей Сергеич Лихутин, завладевая рукой Аблеухова, неугомонно отрезывал:
– «Я... я... я... имею честь известить: что я – с утра... я... я... я...»
– «?»
– «Я по вашим следам... Ия – был: между прочим, у вас... провели в вашу комнату... Я там сидел... и – оставил записку...»
– «Какая досада...»
– «Тем не менее», – перебил подпоручик, – «имею к вам: безотлагательный разговор...»
– «Начинается», – шарахнулось в мозгу Аблеухова: он – отразился в большой магазинной витрине.
Между тем рассвисталась по Невскому свистопляска, чтоб, дробными, частыми каплями нападать, стрекотать и шушукать зонтами, и обливать жиловатые руки мещан и рабочих; свистала по Невскому свистопляска, чтоб гнать там рои облаков: из Петербурга – по пустырям – самарским, тамбовским, саратовским – в буераки, в песчаники, в чертополохи, в полыни, срывая высоковерхие скирды и разводя на гумне свою липкую гниль.
РАЗГОВОР ИМЕЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ
– «Я имею к вам дело... я всюду расспрашивал, как нам встретиться, и был у нашей общей знакомой, Варвары Евграфовны...»
– «С Варварой Евграфовной у меня состоялось тяжелое разъяснение – относительно вас... Вы меня понимаете?.. Соловьева дала один адрес: приятеля вашего... Дудкина?.. Ну, все равно... Я, конечно, – по адресу; встретил вас на дворе... Вы оттуда бежали... Притом – не одни. Вы имели взволнованный, очень болезненный вид... Я беседы вашей прервать не решился».
– «Сергей Сергеевич...»
– «Я беседы прервать не решился: за вами проследовал – на известной дистанции, чтобы не быть свидетелем разговора: просовывать нос не люблю...»
Тут Лихутин задумался, глядя в даль Невского:
– «Слушайте...»
– «Что такое?»
– «Какая-то нота, – на «у»... Там... там... загудело...»
Николай Аполлонович повернул свою голову; странное дело – летели мимо пролетки; и – все в одну сторону; ускорился бег пешеходов; оборачивались назад.
– «Вы все время, Николай Аполлонович, на меня глядели в упор, по вы делали вид, что меня не заметили...»
– «Я не узнал вас...»
– «Я кланялся...»
Что такое?
Остановились прохожие; широчайший проспект был пуст от пролеток; не было слышно ни кляканья шин, ни копыт.
– «Посмотрите-ка?»
Из дали проспекта бежал тысячеголосый окрепнущий гул: оттуда попесся лихач; полустоя на нем, изогнулся потрепанный барин без шапки, сжимая в руке претяжелое древко: и было странпо увидеть летящее знамя; когда пролетела пролетка, то все котелки, треуголки, цилиндры, околыши, перья, фуражки, косматые шапки – зашаркали, затолкались локтями и хлынули с тротуара на середину проспекта; а из разорванных туч бледный солнечный диск пролился на мгновение палевым отсветом.
Разъединенные парой локтей, они побежали туда, куда все побежали; тут, пользуясь давкою, Николай Аполлонович имел намерение ускользнуть от объясненья некстати, по направлению к дому: ведь бомба-то..., в столике... тикала!
Но подпоручик Лихутин его не утеривал из виду, выбиваясь из сил, чтобы пробиться.
– «Не утеривайте меня... Николай Аполлонович; впрочем, все равно... я от вас не отстану».
– «Так и есть», – убедился Аблеухов, – «гоняется: он меня не отпустит...»
Почувствовал, что его опять ухватила рука подпоручика; тут он стал, будто вкопанный, симулируя равнодушие.
– «Манифестация!..»
– «Все равно: я имею к вам дело».
Откуда-то издали сыпался пачками треск; заволновались красные водовороты знамен; и – рассыпались быстро.
– «Сергей Сергеевич, поговоримте в кофейне... Отчего бы нам не в кофейне...»
– «Как так в кофейне?..»
– «Так где же?»
– «Да и я тоже думаю... Садитесь в пролетку; поедемте на квартиру...»
– «Но, Сергей Сергеевич, – я полагаю: по некоторым обстоятельствам, вам понятным, у вас неудобно...»
– «Э, полноте».
– «Как человек просвещенный, гуманный, поймете... Словом, словом... по поводу Софьи Петровны».
Запутавшись, оборвал.
Они сели в пролетку: пора: где метались знамена и сыпался пачками треск, уже знамени не было; хлынула такая толпа, что сроенные в кучи пролетки, стоявшие тут, полетели в глубь Невского – в противоположную сторону.
Вот все пропало: свернули с проспекта; навстречу им кинулось клочковатое облако с ливенной полосой; синеватая полоса их накрыла, – и стали опять стрекотать, пришепетывать капельки, закрутивши на лужах свои пузыри; Николай Аполлонович сидел, завернувшись в свой плащ: позабыл, куда едет; и оставалось лишь чувство: он едет – насильно.
Тяжелое стечение обстоятельств опять навалилось.
Тяжелое стечение обстоятельств, – иль: пирамида событий.
Она, пирамида, есть бред геометрии: бред, не измеримый ничем; она – спутник планеты; желта и мертва, как луна.
Или – бред, измеряемый цифрами.
Тридцать нолей: это – ужас; да: зачеркните вы единицу – провалятся тридцать нолей.
Будет – ноль.
В единице – нет ужаса; единица – ничтожество: единица!.. Но единица плюс тридцать нолей образуется в безобразие пенталлиона*178: пенталлион – о, о, о! – повисает на тоненькой палочке; единица пенталлиона себя повторяет более чем миллиард миллиардов, повторенных более чем миллиард раз.
Да, – человеческой единицею, то есть тощею палочкой, проживал Николай Аполлонович, совершая пробеги по времени –
– Николай Аполлонович в костюме Адама был палочкой; он, стыдясь худобы, никогда еще ни с кем не был в бане –
– в вековечные времена!
И на эту вот палочку пало все безобразие пенталлиона (более чем миллиард миллиардов, повторенных более чем миллиард раз); непрезентабельное кое-что внутрь себя прияло ничто; и разбухало из вековечных времен –
– так разбухает желудок, благодаря развитию газов, от которых все Аблеуховы мучились –
– в вековечные времена.
Вспучились просто Гауризанкары какие-то.
Во мгновение ока опять пронеслось то же все, что с утра пронеслось: в голове пролетел его план.
ПЛАН
Подкинуть сардинницу; подложить под подушку; иль – нет: под матрасик. И – ...:
– «Доброй ночи, папаша!»
В ответ:
– «Доброй, Коленька, ночи!..»
Отправиться в комнату.
Нетерпеливо раздеться: защелкнуть на ключ; и – уйти с головою в одеяло.
В пуховой постели дрожать – от сердечных толчков; тосковать II подслушивать: как там... бацнет, как... грохнет, естественно разорвав тишину, разорвавши постель, стол и стену; и – разорвав, может быть...: разорвав, может быть...
И услышать знакомое шлепанье туфель к... ни с чем не сравнимому месту.
От французского чтения перекинуться – к хлопковой вате, чтоб ватой заткнуть себе уши: уйти с головой под подушку; и убедиться: ничто не поможет. И выставить голову – в бездне испуга.
Ждать, ждать.
Полчаса: зеленоватое просветленье рассвета; синеет, сереет; и – умаляется пламя свечи; лишь – пятнадцать минут; и тут тушится свечка; и – протекают медлительно: не минуты, а – вечности; чиркает спичка: но – протекло пять минут... Успокоить себя, что – не скоро, чрез десять медлительных оборотов времен, обмануться:
– не повторяемый, единственный, притягательный звук все-таки... –
– грянет!!
Тогда:
– вставив голые ноги в кальсоны (какие кальсоны!) – иль даже в исподней сорочке и с перекошенным белым лицом –
– да, да, да!
выпрыгнуть из разогретой постели, протопать босыми ногами в чернеющий коридор; и помчаться стрелою: к неповторному звуку, вбирая особенный запах: смесь гари и газа с... еще кое-чем, что ужаснее гари и газа, и...
Впрочем, запаха, вероятно, не будет.
Вбежать, задыхаясь от громкого кашля, чтобы просунуться в черную, стенную пробоину, образовавшуюся после звука.
И там: за пробоиной... – в месте разгромленной спальни, суровое пламя осветит... безделицу: клубами рвущийся дым.
200
Все же...
Под эту завесу просунуться: красная половина стены; и – течет: стены мокрые; стало быть, липкие, липкие...: это – первое впечатление от комнаты; и – последнее; запечатлеется: штукатурка, осколки разбитых паркетов и драные лоскуты пропаленных ковров; они – тлеют; бердовая кость?
Почему – уцелела: не прочие части?
А за спиною идиотический гул голосов, ног неровные топоты – в глубине коридора; и – плач судомойки; и – треск телефона (трезвонят в полицию)...
Уронить канделябр... Сев на корточки, обдергивать ночную сорочку, пока сердобольный лакей –
– на которого будет легче свалить, – пока он не потащит в соседнюю комнату и не станет вливать в рот холодную воду...
Вставая от полу, – увидеть: – ту липкость, которая сюда шлепнула: после громкого звука с пробоины: с лоскутами отодранной кожи... (с какого же места:?) к стене то – прилипло...
Лишиться вдруг чувств.
Разыграть – до конца.
Через сутки – акафист*179: склониться свечой.
Через два всего дня, богоподобный свой лик утыкая в меха николаевки, следовать за катафалком, на улицу: с видом ангела; и сжимать в бело лайковых пальцах фуражку – в сопровождении сановной той свиты...; ту груду протащат по лестнице златогрудые, белоштанные старички.
Восемь лысеньких старичков!
И – да, да!
Подать следствию показания, но такие, которые... на кого бы то ни было (разумеется, не намеренно)...: будет брошена тень.
Дурачок, простачок,
Коленька танцует:
Он надел колпачок –
На коне гарцует.
Когда Николай Аполлонович обрекал себя быть исполнителем казни – во имя идеи...; тот миг и явился создателем плана – не серый проспект, по которому он все утро метался; да: действие во имя идеи соединилось с притворством и, может быть, с оговорами: неповиннейших лиц (камердинера).
К отцеубийству присоединилася ложь; и, что главное, – подлость.
Благороден, строен, бледен,
Волоса, как леи:
Мыслью щедр и чувством беден...
Н. А. А... Кто ж он?
Он – подлец...
Все, протекшее, было фактами: факт – был чудовище: стая чудовищ! Да: Николай Аполлонович спал, читал, ел; даже, он – вожделел: к Софье Петровне.
Но, но!..
Он и ел, не как все, и любил, не как все; сны бывали – тупые; а пища казалась – безвкусной; что-то – было, что тянулось за ним; н – бросало особенный свет на отправление всех его функций.
В чем?
В обещании партии? Обещание – не брал; но... другие тут думали (думал Липпанченко).
И так в обещании, возникшем у моста, – там, там: в сквозняке приневского ветра, когда за плечами увидел он котелок, трость, усы (петербургские обитатели отличаются – гм-гм – свойствами!..)
Да: стояние у моста есть следствие; гнало – вожделение; страстные чувства переживалися
Когда Коленьку называли отцовским отродьем, ему было стыдно; «
И понял, что все, что ни есть, есть «
Души – не было.
Плоть – ненавидел; к чужой – вожделел. Так из детства вынашивал личинки чудовищ; когда же созрели они, то повылезали: в двадцать четыре часа!
Этот ветхий, скудельный сосуд должен был разорваться; и он – разрывался.
УЧРЕЖДЕНИЕ
Учреждение...
Торс козлоногой кариатиды: к крыльцу подлетела карета, влекомая парой коней; и лакей, в треуголке, надетой на голову, щелкнул; и дверце, откинув коронками скрашенный герб (единорога, бьющего рыцаря), распахнулося; отдавая поклоны, рука, облеченная в кожу, коснулася края цилиндра.
Восстали – параграфы.
Поражает меня начертанье параграфа: падают – два совокупленных крючка; да, параграф – естественный пожиратель бумаг: филлоксера*181! В параграфе что-то мистическое: он – тринадцатый знак зодиака.*182
Над Россиею размножался параграф: по залам и красного сукна ступеням заводилась параграфа циркуляция, которой зведовал Аполлон Аполлонович.
Аполлон Аполлонович – популярнейший в России чиновник: за исключением... Коншина*183 (чей автограф вы носите на кредитных билетах).
В Учреждении – Аполлон Аполлонович: верней «был», потому что он умер... –
– недавно я был на могиле: над черномраморной глыбою поднимается крест; под крестом – горельеф, высекающий голову, сверлящую вас: демонический, мефистофельский рот! Ниже же: «Аполлон Аполлонович Аблеухов – сенатор»... и год рождения, и год кончины... Глухая могила!... –
Есть в Учреждении кабинеты...
И есть просто комнаты; столы – в каждой зале; писцы; перед каждым: перо и чернила; почтенная стопка бумаг; каждый поскрипывает, переворачивает листы, верещит (и я думаю, что зловещее растение «вереск» происходит от верещания);
– тот шелест стоял над могилой: берез; сережки их падали: на черномраморный крест; и – мир его праху! –
В кабинете своем Аблеухов сидит ежедневно с напруженной жилою, заложив ногу на ногу, а жиловатую руку – за отворот сюртука; шестидесятивосьмилетний старик дышит явственным совокупленьем крючков; и дыхание облетает пространство России; да, да: Аполлон Аполлонович, осененный счастливою мыслию, заложив йогу на ногу, надувает тугим пузырем свои щеки; и – дует (привычка) ; и холодочки пасутся уже по нетопленным залам; и – начинается ветер; и – на окраине разражается ураган.
Аполлон Аполлонович: дует!
Да, да: Аполлон Аполлонович – человек городской, благовоспитанный господин: сидит в кабинете; а тень, проницая... бросается на прохожих: и свистом она гуляет в пространствах – самарских, саратовских – в буераках, в песчаниках, в чертополохах, в полыни, в татарнике, обнажает песчаные лысины, раздувает в овине огонь.
Шутники бы сказали: не Аполлон Аполлонович, а Аквилон Аполлонович*184.
ОН ВИНТИТЬ ПЕРЕСТАЛ
Аполлон Аполлонович одинок.
Не поспевает: стрела циркуляра – не проницает уездов: ломается; кое-где лишь слетит Иванчевский, да – Козлородовы. Аполлон Аполлонович из Санкт-Петербурга порой разразится бумажною канонадой; – и (в последнее время) – даст маху.
Стрелометатель, – он тщетно слал молнию; переменилась история; в древние мифы – не верят; и Аполлон Аполлонович – не бог Аполлон*185: он – чиновник.
Бумажная циркуляция уменьшалась; и пахнущая типографскими шрифтами злая бумага уже начинала подтачивать Учреждение – прошениями, предъявлениями, угрозой и жалобой.
Ну и что же за гнусное обхождение в отношении к начальству циркулировало среди обывателей? Пошел прокламационный тон.
Что это значило?
Многое; недосягаемый Козлородов, асессор, – наглел; и он тронулся из провинции на Иванчи-Ивапчевских.
От Аполлона Аполлоновича поступали проекты, советы, приказы: сидел в кабинете с надутой височной жилою; и приказ за приказом тотчас уносился: в провинциальную тьму.
В Петербурге, на Невском, уже показалася тьма в виде шапки манджурской; кольцо многотрубных заводов уже перестало выкидывать дым.
Колесо механизма вращал Аполлон Аполлонович; он пять лет лишь катил колесо.
И он чувствовал себя костяком, от которого отвалилась Россия.
Да, многими десятками катастроф Флегетоновы волны бумаг*186 ударялися о колесо той громадной машины, которую сенатор вращал; у Учреждения обнаружилась брешь. –
И случился скандал: из бренного тела носителя бриллиантовых знаков уже улетучился гений (он спятил с ума), полетел со ступенек служебной карьеры.
Пал в мнении многих.
На вечер к Цукатовым прибыл он, муж государственной важности; но, когда обнаружилось, что бежал его сын, обнаружились недостатки сенатора: сомнения не было.
Аполлон Аполлонович Аблеухов был вычеркнут из кандидатского списка на исключительный пост.
Начался тут закат Аблеухова.
УГОЛЬНЫЕ ЛЕПЕШКИ
Зеленоватое просветление утра; Семеныч в каморке кряхтел, переворачивался, возился; – и нападали: зевота, чесотка и чох.
И валила зевота.
Тетюринская проговорила труба (то – тетюринской фабрики); свистнули пароходики; электричество – фук: нет его!.. Приподнялся Семеныч.
Шушукался.
Ваше, мол, высокопревосходительство, барин – так, мол, и так...
– «Никакого внимания...»
– «барчонок-от ефтат: прости прегрешения наши, о, господи!»
– «И не баре, – хамлеты...»
– «Не баре, а... химики...»
Бацнула там коридорная дверь: Авгиева – купца обокрали, Агииева – купца обокрали.
И резали молдаванина Хаху.
Он выставил голову, вставив ноги в кальсоны, с жующею челюстью выпрыгнул из разогретой постели; босыми ногами прошлепал: в чернеющий коридор.
Щелкнула задвижка у... ватерклозета: его высокопревосходительство, Аполлон Аполлонович, барин!
– «Авдиева – купца обокрали!.. Агниева – купца обокрали!.. Хаху, провизора, – резали!..»
Аполлон Аполлонович мешковато запутался в малиновых кистях, облекался в стеганый, полупротертый халатик мышиного цвета и выставив из малиновых отворотов совсем непробритый шершавистый подбородок (вчера еще гладкий), истыканный иглистой белой щетиною, будто выпавшим инеем.
Он сидел, раскрыв рог, с волосатою грудью и втягивал в легкие проникающий воздух, и – щупал свой пульс.
Очень мучился неразрешенной икотой.
Не думая о серии телеграмм, ни о том, что ответственный пост – ускользает навеки, ни – даже! – об Анне Петровне, – он думал о том, о чем думалось перед коробочкою черноватых лепешек.
Он думал: икота, толчки, перебои, всегда вызывающие колотье и щекотание ладоней, случаются не от сердца, а – от развития газов.
– «Да: просто – желудок!»
Однажды старался ему объяснить камергер Сапожков, скончавшийся от сердечной ангины.
– «Газы, знаете ли, распирают желудок: грудобрюшная преграда сжимается... Оттого и толчки, и икота...: развитие газов...»
Недавно, в Сенате, взволнованный Аполлон Аполлонович, разбирая доклад, – посинел, захрипел; и был выведен:
– «Это, знаете, газы...»
Лепешка ему иногда помогала, естественно абсорбируй газы.
– «Да: газы» – и тронулся он к... к...: – половина девятого.
Звук и услышал Семеныч.
Сняв плед, Аполлон Аполлонович тронулся с места, раскрыл эту дверь, чтоб у самой двери наткнуться:
– «Вы?»
– «Я-с...»
– «Аа: да, да...»
– «Приглядеть всюду надобно...»
– «?...»
– «Звук...»
– «А что-с?»
– «Хлопнуло...»
Дело в том, что за десять минут перед тем с удивлением Семеныч приметил: из двери барчуковской просунулась белобрысая голова: поглядела и – спряталась.
И барчук проюркнул попрыгунчиком.
Постоял, подышал, покачал головой, обернулся, и – приметил Семеныча, прижатого к теневому углу коридора; да – как прилипнет, не отрываясь от двери: не по-барчукски!
Подглядыватель?
Не лакеем каким-нибудь был – генеральским сынком, образованным на французский манер:
– «Да хамлеты какие-то... Господи...: подсматривать в щелку!»
– «?..»
– «Николай Аполлонович...»
– «А?»
– «Уходя, хлопнули дверью».
И Аполлон Аполлонович Аблеухов Семеныча собирался спросить: пережевывал ртом:
– «Анну Петровну-то старик-таки видел...»
– «Анна Петровна-то изменилась, сдалась; и, поди, поседела себе: стало больше морщинок... Порасспросить бы?»
Лицо шестидесятивосьмилетнего барина неестественно распалось в морщинах, а нос ушел в складки.
И стал шестидесятилетний – тысячелетним каким-то; с надсадою, переходящей в крикливость, седая развалина принялась выжимать каламбурик:
– «К... ме-ме-ме... Вы... ме... босы?»
– «Ваше высокопр...»
– «Да... ме-ме-ме... не о том» –
Но каламбурика он не сложил:
– «Э... скажите...»
– «?»
– «У вас ведь, конечно же, – желтые пятки?»
Семеныч обиделся:
– «Желтые, барин, пятки не у меня-с: у китайцев-с...»
– «Хи-хи... Может... розовые?»
– «Человеческие-с...»
– «Нет – желтые!»
Аполлон Аполлонович топнул.
– «Какие там пятки?.. И в пятках ли дело?.. Сам, старый гриб, за ночь... Сама-то поблизости: в ожидательном положении... Сын-то – хамлетист... Туды же о пятках!.. Вишь ты – желтые... у самого пятки желтые...»
А Аполлон Аполлонович, как и всегда, в каламбурах выказывал просто настырство какое-то: становился совсем непоседою, вертуном, приставалой, дразнилою, походя на мух, лезущих в глаз, – перед грозой, в душный день, когда сизая туча томительно вылезает над липами; мух таких – давят.
– «У барышни-то – хи-хи...»
– «Что у барышни?»
– «Есть...»
– «Что?»
– «Розовая... пятка...»
– «Не знаю...»
– «А вы посмотрите...»
И, не окончивши фразы своей, Аполлон Аполлонович – действительный тайный советник, профессор, – протопал к себе: почивать.
И беспомощно стал... э, да как помельчал! Э, да как засутулился! Казался – неравноплечим.
Тревожные донесения из провинции... И, знаете, сын, сын!.. Ужасное положение, знаете ли...
Ничего-с!.. Как-нибудь!..
Восстание, гибель России... И уже – собираются: покусились... Какой-нибудь абитуриент.*187
Потом – газы!..
Тут принял лепешку...
Перестает быть упругой пружина, перегруженная гирями; в старости разжижается человеческий мозг.
Аполлон Аполлонович Аблеухов мерз в детстве: и круче, и крепче казался блистающий бюст, – самосветящийся, восходящий над северной ночью – до гниловатого ветерка, от которого пал его друг.
Одиноко и гордо стоял под жерлом урагана, – оледенелый и крепкий; и – платина плавится.
Аполлон Аполлонович в одну ночь просутулился; в одну ночь развалился, повис головой.
И на огненном фоне горящей Российской Империи вместо крепкого золотомундирного мужа стоял – геморроидальный старик, непробритый, нсчесаный, потный, – в халате с кистями!
Видывали ли вы впадающих в детство, но все еще знаменитых мужей, которые полстолетие отражали удары?
Я видел.
В собраниях, на конгрессах они взлезали на кафедру в лоснящихся фраках, с отвисающими челюстями, беззубые –
– видел я
– продолжали еще по привычке они ударять по сердцам!
И я видел их на дому.
Со слабоумною суетой шепоточком мне в ухо кидая больные, тупые остроты, влачи лися в кабинет и слюняво там хвастались: полочкой собрания сочинений, переплетенных в сафьян!..
Я ЗНАЮ, ЧТО Я ДЕЛАЮ
Ровно в десять часов Аполлон Аполлонович откушивал кофей.
В столовую он вбегал – ледяной, строгий, выбритый, распространяя запах одеколона; царапая туфлями иол, к кофею приволокся в халате сегодня: ненадушенный, не выбритый.
На корреспонденцию – не взглянул, на приветствия слуг – не ответил:
Зовет меня мой Дельвиг милый, –
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой –
– «Послушайте: уберите-ка пса...»
В половине двенадцатого Аполлон Аполлонович, будто вспомнивши что-то, засуетился, напоминая серую мышь; и бисерными шажками пустился он в комнату, обнаруживши под распахнутой полой халата кальсоны.
Туда заглянул и лакей, чтобы напомнить, что поданы лошади.
С изумлением рассматривал он, как от полочки к полочке по бархатистым, разостланным коврикам Аполлон Аполлонович перекатывал кабинетную лесенку; и – он взбирался по лесенке с опасностью для собственной жизни; вскарабкавшись, на томах пальцем пробовал пыль.
Он потребовал тряпок.
Лакеи взяли по стеариновой свечке и стали по обо стороны лесенки.
– «Подымите-ка свет... Да не так... И не этак... Э, да – выше: повыше...»
Из пыльного облака копошилися полы мышиного цвета, болталися малиноватые кисти.
– «Изволите себя утруждать...»
Аполлон Аполлонович Аблеухов, действительный тайный советник, из облака пыли – какое там! Позабыв все на свете, он тряпкою обтирал корешки, расчихался:
– «Пыль, пыль...»
– «Ишь ты... Ишь ты!..
– «А ну-ка я... тряпкою: так-с!»
– «Хорошо-с!..»
Был тревожный звонок телефона: трезвонило Учрежденье; из желтого дома ответили:
– «Да... Изволят откушиватъ кофе... Доложим... Да... Лошади поданы...»
И трещал телефон; на вторичный звонок телефона ответили:
– «Да уж мы доложили... Доложим...»
Ответили и на третий звонок:
– «Занимаются разборкою книг...»
– «А, протру-ка я!..»
– «Ай, ай, ай!.. Не угодно ли видеть?»
Продребезжали звонки, поговорило молчание о чем-то забытом.
И голова повернулася:
– «Слышите?.. Слушайте...»
Оказаться мог: Николай Аполлонович, негодяй; оказаться мог: Герман Германович, с бумагами, Котоши-Котошинский, граф Нольден, – ме-ме и – Анна Петровна...
– «Ваше высокопревосходительство, как не слышать: огЕорят, небось...»
На дребезжание отозвались лакеи:
– «Осмелюсь заметить: звонят!..»
Каждый вытянул свечку – под потолок; из-под самого потолка голова вдруг просунулась в пыльных клубах.
– «Да, да, да...»
– «Знаете ли...»
– «Звонят... звонки...»
Невыразимое они учуяли, вздрогнули: торопитесь – бегите – спешите!..
– «То – барыня...»
– «Анна Петровна!..»
Аполлон Аполлонович – мышиная куча – заерзал глазами, кое-как стал сползать, привалившися к перекладинам лестницы волосатою грудью; сполз,- пустился дробью по направлению к лестнице с подтиральной тряпкой в руке: задышал и нащупывал пульс.
А по лестнице подымался уже господин с бакенбардами, в вицмундире, с обтянутой талией, в белых манжетах, с звездой на груди, предводимый Семенычем.
Аполлон Аполлонович, запахнувшися полой халата, выглядывал из-за статуи Ниобеи.
БУДЕШЬ ТЫ, КАК БЕЗУМНЫЙ
Коли бывал в Петербурге, то знаешь подъезд: там дубовые двери с зеркальными стеклами.
Булава разблисталась из стекол.
Покатое, восьмидесятилетнее плечо спится прохожим, которым все – сон; на плечо старика падает треуголка; швейцар так же ярко блистает серебряным галуном, напоминая служителя похоронных процессий.
А булава очень мирно покоится на плече; засыпает года над «Биржевкою». Днем ли, иль утром, под вечер ли ты пройдешь мимо двери – увидишь: галун, булаву, треуголку.
И – остановишься пред видением. Пять лет протекло: проволновались события; пал Порт-Артур; желтолицыми наводняется край; пробудились сказания о всадниках Чингиз-Хана.
Но видение годин неизменно: плечо, треуголка, галун, борода.
Коли тронется белая борода, прокачается булава и сверкнут галуны, будешь ты, как безумный, кружиться по петербургским проспектам.
Послушай, прислушайся: топоты... из уральских степей.
Это – всадники. •
Застывая года над подъездом многоколонного дома, свисает кариатида подъезда: колосс.
Старый, каменный бородач!
Улыбался многие годы: над уличным шумом, над летами, зимами, вёснами – завитушками орнаментной лепки!
И из безвременья, как над линией времени, изогнулся: и на его бороде поуселась ворона; мокрый проспект отливается блеском; и плиты, невесело озаренные, отражают: зеленоватые лица прохожих.
О, что за день!
Стали бить, стрекотать, пришепетывать капельки; пер туманистый войлок: и проходили писцы; отворял им швейцар; они вешали шляпы на вешалках и пробегали по красным ступеням они: беломраморным вестибюлем; и шли по нетопленным залам – к холодным столам; по писать было нечего; из директорского кабинета не приносилась бумага; там не было никого.
Аполлон Аполлонович – не прошествовал.
Надоело и ждать; перепархивал недоумевающий шепот; мерещились мороки; и трещала труба телефона:
– «Выехал ли?.. Быть не может?..»
– «Докладывали?.. Сидит за столом?..»
Вице-директор спустился по бархатным ступеням в высочайшем цилиндре.
Чрез двадцать минут, поднимался по ступенькам, он видел, как Аполлон Аполлонович Аблеухов, его начальник, с запахнутой полой халата выглядывал из-за статуи:
– «Аполлон Аполлонович, вот вы где? А мы вас, а мы – к вам; мы – трезвонили, телефонили. Ждали...»
– «Я... ме-ме», – зажевал, – «разбираю свою библиотеку... Извините», – прибавил, – «я так: по-домашнему».
И руками показывал он на драный халат.
– «Э, э, – да вы будто опухли!.. Отекли?»
Свою подтиральную тряпку сенатор теперь уронил на паркет.
– «Поздравляю: всеобщая забастовка...»
– «С чего это вы?.. Я... ме-ме...» – тут лицо старика недовольно распалось в морщины:
– «Пыль?»
– «Я ее – тряпкой».
Вице-директор почтительно теперь наклонился перед развалиной; и – пытался...
Но Аполлон Аполлонович снова его перебил:
– «Пыль, знаете, содержит микроорганизмы болезней...»
Седая развалина, севшая в кресле ампир, привскочила, рукой опираясь о ручку: уткнулась в бумагу:
– «Что?»
– «Я вам – докладывал...»
– «Нет-с, позвольте-с...» – ожесточенно припал он к бумаге.
– «Постойте!.. Да они посходили с ума?..»
– «Аполлон Аполлонович...»
– «Как могли они думать? Одно дело – административная власть, а другое – негодное нарушение законных порядков».
– «Но – Аполлон Аполлонович!»
По Аполлон Аполлонович завертел карандаш, перевязывал кисти халата, с дрожащею челюстью.
– «Я, человек школы Плеве... Я знаю, что делаю...»
– «Ме-емме,.. Ме-емме...»
И надул пузырем свои щеки...
Карьера сенатора Аблеухова, созидаемая годами, рассыпалася прахом. Уж по отъезде виде-директора Учреждения Аполлон Аполлонович расхаживал среди кресел ампир; скоро он удалился; и вновь появился: тащил тяжеловесную папку бумаг – на перламутровый столик.
Из нотабен, вопросительных знаков, параграфов, черточек поднималася мертвая голова.
– «Так себе...»
Поднялась на камин с усмехнувшимся ртом, воображая, как через слякоть летит от него карьерист, предложивший ему, Аблеухову, сделку.
– «Я, судари, человек школы Плеве!..»
Отточенный карандашик огромными стаями вопросительных знаков упал на бумагу: последнее дело его.
Кариатида – не двинулась: бородач, старый, каменный!
Тысяча восемьсот двенадцатый год освободил из лесов; двадцать пятый над ним бушевал, возмутительными декабрьскими днями; пробушевали январские дни: девятьсот пятый!
О, Каменный Бородач!
То, что видел он, – не расскажет.
Осаживал кучер: н генерал в треуголке выпрыгивал из кареты при криках «ура».
И имя его утаил бородач.
Бородач его знает; и – помнит; но рассказать – по расскажет!
Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.
Бегут за днями дни. И каждый день уносит
Частицу бытия. А мы с тобой вдвоем
Располагаем жить. А там: глядь: и умрем.
Но швейцар с булавой, засыпающий над «Биржевкою», знавал хорошо: Вячеслава Константиновича*189 в Учреждении еще помнят, а блаженной памяти императора Николая не помнят!
На свете счастья нет, а есть покой и воля...*188
Давно желанная мечтается мне доля:
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.
Приподымается лысая голова, – блеклый рот улыбается вспышкам; глаза – опламененные, каменные, синие, в зеленых провалах. Вся жизнь – только морок:
– «Я, судари мои, школы Плеве... Я, судари мои...»
В Учреждении перепархивал шепот; вдруг дверь отворилась:
– «Аполлон Аполлонович... выходит в отставку...»
Расплакался столоначальник Легонин; из вице-директорской комнаты – вразумительный голос; и – треск телефона; вице-директор – с дрожащею челюстью; Аполлон Аполлонович – не был главой Учреждения.
ГАДИНА
То место увенчивал великолепный дворец; вверх протянутой башнею напоминал он причудливый замок: розово-красный, тяжелокаменный! Не теперь это было, и венценосца того уже нет.*190
Розово-красный дворец выступал своим верхом из гущи безлистных суков; те суки протянулися к небу глухими порывами и, качаясь, ловили бегущие облака; каркая, вверх стрельнула ворона; взлетела, качалась над хлопьями; и – обратно низринулась.
Пролетка пересекала то место.
И конная статуя вычернялась неясно от площади*191; посетители Петербурга той статуе не уделяют внимания: великолепная статуя!
Своему великому прадеду соорудил эту статую самодержец; он жил в розовокаменном замке; не долго томился.
Вероятно, не раз появлялась курносая в белых локонах голова в амбразуре окна. И курносая в локонах голова дозирала пространства за стеклами; утопали глаза в розовеющих угасаниях неба, иль упирались в серебряную игру и в кипение месячных отблесков в густолиственных древесах; у подъезда стоял часовой в треуголке с полями и брал на
И Павел Петрович, окинувши взглядом все это, опять возвращался к сентиментальному разговору с кисейного фрейлиной; фрейлина улыбалась; обозначились лукавые ямочки, мушка.
В ту ночь разливалося лунное серебро, упадая на мебели императорской опочивальни, озолощая лукаво амурчика; на подушке уже вырисовывался профиль лежащего; где-то били куранты; и – намечались шаги... Не прошло трех мгновений – постель была смята: а простыни были теплы; почившего – не было; кучечка белокудерных офицеров с порывисто обнаженными шашками наклоняла главы к опустевшему ложу; в дверь сбоку ломились; и – плакался женский голос; рука розовогубого офицера приподняла оконную штору; и из-под спущенной кисеи, на окне, в серебре – прочернела дрожащая тень.
Где-то били куранты; а там, в отдалении, топотали шаги.
Николай Аполлонович бессмысленно озирал это мрачное место, не замечая, что бритая физиономия подпоручика от времени до времени поворачивалась на него; взгляд, которым окидывал подпоручик Лихутин везомую жертву, казался исполненным любопытства; толкался он боком.
Тут ветер сорвал с Аблеухова итальянскую шляпу с полями, и этот последний поймал ее на коленах Лихутина; на мгновение прикоснулся он к пальцам Лихутина; пальцы же дрогнули с гадливым испугом. Лихутин испытывал прикосновение гадины, которую... пришибают... на месте...
И Аблеухов осунулся.
– «Я бы вам, Сергей Сергеевич, посоветовал приподнять воротник: у вас – горло; при этой погоде же, ничего не стоит...»
– «Что, что?»
– «Схватить жабу».
– «И по вашему делу», – вдруг буркнул Лихутин.
– «?»
– «Да я не о горле... А службу оставил я по
– «Намек», – чуть было не воскликнул Николай Аполлонович и поймал снова взгляд.
И была в этом взгляде гадливость: ползучие гадины не вызовут гнева – да, их пришибут, чем попало: на месте...
Произойдет – ...Николай Аполлонович не на шутку тут струсил; заерзал на месте и – и десять пальцев, дрожащих, холодных вцепились в рукав подпоручика.
– «А?.. Что?.. Почему это вы?»
Промаячил тут домик кисельного цвета, обставленный завитушками рококо.
– «Я, Сергей Сергеевич... должен признаться... Ах, я сожалею...; печально: мое поведенье... Я вел себя... Сергей Сергеевич... позорно... Сергей Сергеевич, оправдание – есть: есть, есть! Не как какой-нибудь, Сергей Сергеевич, – вы сумеете: все понять... Я не спал эту ночь: я страдаю бессонницей... Доктора же нашли меня», – он унизился до лганья. – «Мозговое переутомление с псевдогаллюцинациями» .
Но Сергей Сергеевич ничего не сказал: без возмущения посмотрел; гадины не вызывают и гнева: но их... пришибают... на месте...
– «Псевдогаллюцинации...» – умоляюще затвердил Аблеухов, перепуганный, маленький, косолапый, залезая глазами в глаза:
– «Я... я... я...»
– «Сходите: приехали...»
И подпоручик Лихутин стоял перед пролеткою, ожидая сенаторского сынка; тот замешкался.
– «Сергей Сергеевич: тут со мной была палка... Я выронил палку?»
Николай Аполлонович поглядывал пред собой оловянными, неморгающими глазами в туманы: ни с места!
Сергей Сергеевич стал сердито, нетерпеливо дышать; он схватил Аблеухова за рукав; и принялся высаживать из пролетки, как товарами переполненный тюк.
И, ссаженный, Николай Аполлонович вцепился Лихутину в руку: рука-то ведь может, пожалуй, принять неприличную позу: телодвижение совершится; и род Аблеуховых опозорится.
Подпоручик Лихутин (вот бешеный!) ухватился свободной рукою за ворот накидки.
– «Пойду, пойду я, Сергей Сергеич...»
Но каблуком инстинктивно уткнулся в бока приподъездной ступеньки; впрочем, тотчас одумался.
Хлопнула подъездная дверь.
ТЬМА КРОМЕШНАЯ
– «Я... вот здесь стоял: вот-вот – здесь стоял... Стоял, себе, знаете...»
– «Это так-то вы, Николай Аполлонович?.. Это так-то?..»
– «В совершеннейшем нервном припадке, повинуяся ассоциациям представлений...»
– «Ассоциациям?..»
«Врач сказал... Э, да что вы подтаскиваете? Не подтаскивайте: я умею ходить...»
– «А вы что хватаетесь за руку?.. Не хватайтесь, пожалуйста».
– «Врач сказал, – врач сказал: редкое такое – расстройство, такое-такое: и домино, и подобное там... Мозговое расстройство...», – пищало откуда-то сверху.
Еще где-то выше упитанный голос воскликнул:
– «А, здравствуйте!»
– «Кто тут такое?» – спросил Николай Аполлонович с облегчением; чувствовал: ухватившаяся за него оторвалася рука.
– «Стою себе и... Звонюсь, звонюсь – не отпирают... Скажите пожалуйста: знакомые голоса».
Когда чиркнула спичка, то обозначилась связка роскошнейших хризантем; а за ними фигура Вергефдена.
– «Сергей Сергеевич?»
– «Обрились?..»
– «Как!.. В штатском...»
– «И Николай Аполлонович тут?.. Как ваше здоровье?»
– «После вчерашнего вечера я, признаться... Вам было не по себе?.. Вы исчезли?..»
Вергефден заторопился:
– «Я не мешаю вам?.. Дело в том, что я на минуточку... Мне некогда... Мы по горло завалены... Аполлон Аполлонович, батюшка ваш, поджидает меня... Ожидается всеобщая забастовка...»
Перекрахмаленная полотняная бабочка показалась из двери.
– «Пожалуйте, барыня дома-с...»
– «Нет, Маврушка... Передайте цветы эти барыне... Это долг», – улыбнулся Сергею Сергеичу, пожимая плечами, как пожимает плечами мужчина мужчине, упоминая о даме.
– «Мой долг перед Софьей Петровной – за
И спохватился:
– «Прощайте, дружище. Николай Аполлонович: вид у вас переутомленный, нервозный...»
Дробью вниз упадали шаги; уже с нижней площадки опять долетело:
– «Нельзя же все с книгами...»
Николай Аполлонович чуть было не крикнул:
– «Я, Герман Германович, тоню... Мне пора... Не по дороге ли нам?»
Бац: хлопнула дверь.
Николай Аполлонович почувствовал себя схваченным: схваченным перед Маврушкой. На лице написался тут перепуг; откровенная сатанинская радость отчетливо написалася на лице подпоручика; обливаясь испариной, из кармана он вытащил носовой свой платок – тиская, прижимая к стене, увлекая, подталкивая другою рукою фигурку студента.
Фигурка же оказалась гибкой, как угорь, естественно отбиваясь от двери; подталкиваемая, – отталкивалась, оттискивалась она.
Николай Аполлонович был-таки втолкнут: но, соблюдая последние крохи своей независимости, заметил:
– «Я к вам... собственно... ненадолго...»
Без соблюдения приличия Сергей Сергеевич пропихнул широкополую шляпу и прямо в комнату с Фудзи-Ямами: нечего прибавлять, что под шляпою, под плащом разлетелся туда обладатель плаща.
Николай Аполлонович проехался через комнату с Фудзи-Ямами, не заметивши следов штукатурки на полосатом ковре (под ногами она надавилась; ковры потом чистили).
Там дверь открылась, и Николай Аполлонович увидел – два глаза в потоке волос.
Раздалось восклицание:
– «Ай!»
– «Ттрр», – волочилися по ковру каблуки.
Николай Аполлонович повернул голову и, увидевши Софью Петровну, он ей прокричал:
– «Оставьте нас, Софья Петровна: между мужчинами полагается это», – слетел с него плащ и упал на кушетку двукрылым созданием.
– «Ттрр», – волочились по ковру каблуки.
Ощутивши громадную встряску в пространстве, он взвесился, дрыгая ногами, и... – отделилась от головы, мягко шлепнувши, широкополая шляпа. Сам он, дрыгая ногами, описывая дугу, – грянулся в дверь кабинетика; дверь распахнулась: пропал в неизвестности.
ОБЫВАТЕЛЬ
Аполлон Аполлонович встал.
Оторвался от пачечек положенных дел: вопросительных, восклицательных знаков; дрожала рука с карандашиком – над перламутровым столиком.
Понял.
Карета с гербом – не подлетит к кариатиде; навстречу не тронутся: восьмидесятилетнее плечо, треуголка и булава; не вернешь Порт-Артура; взволнованно встанет Китай; и – всадники Чингиз-Хана.
Аполлон Аполлонович прислушался: топот далекий; не топот: проходит Семеныч; он входит, проходит.
Аполлон Аполлонович не любил перспективы Невы: зеленоватыми роями неслись облака; и сгущалися в дым, припадающий к взморью; там невская глубина сталью билась в граниты; в зеленоватый туман бежал шпиц... Аполлон Аполлонович обеспокоенно стал озираться: вот – стены: домашний очаг; окончилась деятельность.
Что же?
Снег, а не стены! Немного холодные... Что ж? Семейная жизнь – так семейная жизнь; то есть: Николай Аполлонович – ужаснейший, так сказать...; и – Анна Петровна, ставшая на старости лет...
– «Ме-емме...»
Мозговая игра!
Убегала за грани сознания; и вспомнился: Николай Аполлонович – небольшого росточку с какими-то пытливыми взорами и с путаницей (должно отдать справедливость) многообразнейших умственных интересов.
И – вспомнилась девушка (тому назад – тридцать лет); рой поклонников; и сравнительно молодой человек, статский советник, вздыхатель.
И – первая ночь: выражение отвращенья, прикрытое покорной улыбкой; в ту ночь Аполлон Аполлонович, статский советник, свершил гнусный, формой оправданный акт: изнасиловал девушку; насильничество продолжалось года; зачат был Николай Аполлонович между улыбками: похоти и покорности; удивительно ли, что Николай Аполлонович стал сочетанием отвращения, перепуга и похоти? Надо было приняться за воспитание ужаса, порожденного ими: очеловечивать ужас.
Они ж раздували...
И, раздувши до крайности ужас, поразбежались от ужаса; Аполлон Аполлонович – управлять департаментом; Анна Петровна – удовлетворять половое влечение с Манталини (с артистом); Николай Аполлонович – в философию, в собрания, к усикам. Их домашний очаг превратился в сток мерзости.
В эту-то мерзость теперь возвратиться; но вместо Анны Петровны он встретится с запертою лишь дверью, ведущею в апартаменты ее; ключ был у него (в ту часть дома он заходил – лишь два раза: схватил он там насморк).
Вместо сына увидит – моргающий, ускользающий глаз василькового цвета; не то – воровской; а не то – перепуганный; будет прятаться ужас.
Так далее, далее...
По оставлении государственной службы парадные комнаты позакроются; останется коридор с комнатами для него и для сына; и жизнь ограничится коридором: он будет там шлепать; и – будет: газетное чтение, отправление органических функций, ни с чем не сравнимое место, предсмертные мемуары и дверь, ведущая в комнаты сына.
Подглядывать в скважину и – отскакивать; или – нет: провертеть шилом дырочку; жизнь застенная сына откроется с точно такою же точностью, как часовой механизм; встретят новые интересы – с того вот обсервационного пункта.
– «Папаша!»
– «Доброго, Коленька, утра!»
И – разойдутся по комнатам.
И – тогда: дверь замкнувши на ключ, он приложится к дырочке, чтобы видеть, порою дрожать, – от обнаруженной тайны; подслушивать: как они открывают друг другу себя – Николай Аполлонович и незнакомец; а ночью, откинувши одеяло, он выставит покрытую испариной голову, обсуждая подслушанное, и, задыхался от сердечных толков, будет бегать... к ни е чем не сравнимому месту: по коридору отшлепывать туфлями.
Жизнь обывателя!
Неодолимое стремление повлекло его в комнату сына; тут скрипнула дверь; и открылась приемная комната; остановился он на пороге; весь – маленький, старенький; теребил малиноватые кисти халата, обозревая нескладицу: клетку с зелеными попугаями, арабскую табуретку слоновой кости и меди; он видел – нелепицу: развились с табуреточки полы упавшего домино прямо под голову пятнистому леопарду, распластанному с оскаленной головой; постоял, пожевал, почесал будто инеем серебрящийся подбородок; и с омерзением сплюнул (историю домино он ведь знал); шутовское и безголовое, оно раскидывалось атласными полами и безрукими рукавами; на ржавой суданской стреле повисала и масочка.
Аполлону Аполлоновичу показалось, что – душно: вместо воздуха в атмосфере был разлит свинец; точно тут передумывались ужасные, нестерпимые мысли... Неприятная комната!.. И – тяжелая атмосфера!
Вот – страдальчески усмехнувшийся рот, вот – глаза василькового цвета, вот – светом стоящие волосы: облеченный в мундир с очень тонкой талией и сжимая в руке белолайковую перчатку, Николай Аполлонович, чисто выбритый (может быть, надушенный), при шпаге, страдал из-за рамы: и Аполлон Аполлонович внимательно посмотрел на портрет, писанный минувшей весной; прошествовал в соседнюю комнату.
Незапертый письменный стол поразил внимание Аполлона Аполлоновича: был выдвинут ящичек; Аполлон Аполлонович возымел инстинктивное любопытство; оп подбежал к письменному столу и схватил на столе забытый портрет, который и завертел с глубочайшей задумчивостью (рассеянность отвлекла его мысль от содержания ящика); портрет изображал какую-то даму брюнетку...
Рассеянность проистекла от созерцания одной высокой материи, развернувшейся в мыслительный ход, по которому устремился сенатор; машинально потом опустил он глаза и увидел: рука его вертит уже не портрет, а какой-то тяжелый предмет; а мысль – обозревает тот тип государственных деятелей, которые в просторечии имеют быть названы карьеристами.
Предмет был вытащен рукою сенатора; машинально схватил кабинетный портрет, – а очнулся от мысли – уже с круглогранным предметом: в нем что-то дзанкнуло; менее всего сенатор подумал (над бездною часто пьем кофе со сливками)*192; рассматривал круглогранный предмет С: величайшим вниманием, слушая тиканье часиков: часовой механизм! И – в сардиннице?..
Предмет не понравился...
Предмет он понес для более детального рассмотрения – в гостиную комнату, – склонив над ним голову, напоминая мышиную кучку; он думал о том же типе деятелей; люди этого типа всегда защищаются фразами, вроде «
Аполлон Аполлонович пробежал к тому краю гостиной, где на львиных ногах поднималася длинноногая бронза; на китайский подносик сложил он тяжелый предмет, наклоняя огромную лысую голову, над которой ламповый абажур расширялся стеклом, фиолетовым и расписанным тонко.
Стекло потемнело от времени; тонкая роспись темнела от времени.
НЕДООБЪЯСНИЛСЯ
Николай Аполлонович, влетев в кабинетик Лихутина, грянулся каблуками с размаху о пол; сотрясение передалося в затылок; невольно упал на колени.
Упал и... –
– вскочил, тяжело дыша и хромая; он бросился с перепугу к дубовому креслу, являя собой мешковатую фигуру с дрожащею челюстью, с явно дрожащими пальцами и с единственным инстинктивным стремлением – поспеть ухватиться за кресло, чтобы в случае нападения сзади забегать вокруг кресла, перелетая туда и сюда за туда и сюда перелетающим, беспощадным противником.
Или же, вооружившись тем креслом, его опрокинуть и броситься поскорее к окну (лучше грохнуться прямо на улицу, разбив вдребезги стекла, чем оставаться наедине с... с...) ...
Он бросился к креслу.
Но едва добежал, как горячее дыхание обожгло ему шею: успел разглядеть пятипалую руку, готовую пасть на плечо: да багровеющее лицо мстителя, с напряженными жилами. Пятипалая лапа упала бы на плечо; но он вовремя перепрыгнул через кресло.
И пятипалая лапа упала на кресло.
И – треснуло кресло; раздался неповторяемый, нечеловеческий звук:
– «Потому что... я... вмешался... да вы понимаете?.. Во все дело... Дело... это... Понимаете?.. Дело мое... сторона... То есть, не сторона... Понимаете ли?..»
Подпоручик приподнял над гнувшейся низко фигуркой, ожидавшей затрещины, две ладони; фигурка с оскаленным ртом изгибалась и кланялась, защищая ладонями щеку:
– «Да я понимаю, понимаю... Сергей Сергеевич, тише же, умоляю вас, тише: да умоляю же вас...»
Уже он собирался зажмуриться, заткнуть уши, чтобы не видеть багрового лика, не слушать выкриков петушиного, безголосого голоса:
– «Дело... где каждый порядочный человек... Что я сказал? Да – порядочный...»
Кулак ударился в стену над головой Аблеухова.
Николай Аполлонович увидел всего две ноги (они были расставлены: оп сидел на карачках ведь); мысль – и: не обсуждая последствия, Николай Аполлонович быстро прополз меж двух ног; привскочил, – и без мысли он бросился к двери; но... пятипалые лапы схватили с позором его за сюртучную фалду: закракала дорогая материя.
Кусок фалды, оторванный, отлетел как-то вбок:
– «Стойте... Стойте... Я... я не убью...»
Николай Аполлонович был отброшен; ударился в угол; стоял, почти плача от безобразия; темно-васильковые обычно глаза показалися черными от огромного, холодного перепуга; он понял, что бесновался над ним но Лихутин, не враг, удушаемый мстительным бешенством, а... буйно помешанный, обладающий колоссальною силою мускулов.
Буйно помешанный, повернувшись спиной, подошел тихо к двери; дверь щелкнула; по ту сторону двери раздались какие-то звуки – плач, шарканье туфель; все стихло.
Она подкралася к скважине: поглядела, увидела: пару ног да... панталонные штрипки; и ноги протопали в угол: не означилися нигде; клокоча, вырывалися хрипы и булькало горло; и металлический звук защелкиваемого замка.
Софья Петровна заплакала, отскочила от двери; увидала Маврушку, которая плакала:
– «Что же это?.. Голубушка, барыня?..»
– «Что же это такое?.. Что делают, Маврушка?»
Полоумный же продолжал топать по диагонали, а Николай Аполлонович, распластавшийся на стене, из угла продолжал наблюдать за движеньями полоумного.
Полоумный более не преследовал; оп уперся локтями в колени; глубоко вздохнул; он глубоко задумался.
Вырвалось:
– «Господи!»
Простонало:
– «Спаси и помилуй!»
Николай Аполлонович осторожно воспользовался затишьем.
Бешеный пароксизм разразился; теперь шел на убыль; и Николай Аполлонович, прихрамывая, заковылял из угла, представляя собою довольно смешную фигуру в мундире... с оторванной фалдой, в калошах, в неснятом кашне.
Остановился у столика, слушая биение сердца, неслышным движением схватил пресс-папье.
Но раздался предательский шорох; бумажная стопочка тут рассыпалась; утихающий пароксизм разразился опять; голова повернулась, увидела стоящего Аблеухова, вооруженного пресс-папье; Николай Аполлонович отскочил с пресс-папье.
А Сергей Сергеевич принялся за старое:
– «Только, пожалуйста, – сделайте милость: не бойтесь... Чего вы дрожите?.. Я, кажется, внушаю вам страх?.. Я... я... я... оборвал у вас фалду: но... это непроизвольно».
– «Верите ли, домино объясняется переутомлением нервов; и вовсе оно не является нарушением обещания: не добровольно стоял я в подъезде, а...»
– «Вы за фалду простите», – опять перебил подпоручик, – «а фалду вам – да: подошьют; да я сам: у меня самого есть иголки и нитки...»
– «Это, Сергей Сергеевич, в сущности... вздор...»
– «Да, да: вздор...»
– «Вздор по отношению к теме: по отношению к стоянию в подъезде...»
– «Да не о стоянье в подъезде же!» – досадливо замахал подпоручик, опять принимаясь шагать.
– «Ну, о Софье Петровне...»
– «О чем же?»
– «Тема, видите», – и подпоручик поднес свои кровью налитые глазки... – «Видите ли, вся в том, что вы – заперты...»
– «Он рехнулся: он – позабыл, его мозг подчиняется только ассоциациям: он, таки, собирается...» – но Сергей Сергеевич поспешил:
– «Вы здесь в безопасности... Вот вам фалда...»
– «Он – издевается», – подумал Николай Аполлонович.
– «Видите ли: вы – не уйдете отсюда... А я... отсюда уйду с продиктованным мною письмом – с вашей подписью... К вам пойду, в вашу комнату, где я утром уж был, но где ничего не заметил... Все у вас подниму там вверх дном; в случае, если поиски мои окажутся совершенно бесплодны, предупрежу вашего батюшку... потому, что», – он потер себе лоб, – «не в батюшке сила; сила – в вас; да, да, да-с – в вас единственно».
Жестким пальцем уткнулся он в грудь и стоял с одной только взлетевшею бровью.
– «Этому, – не бывать никогда!»
На багровом лице проиграло:
– «?»
– «!» – «!?!»
Помешанный!
Странно, что к бреду Николай Аполлонович прислушался; что-то в нем дрогнуло: подлинно, – бред ли? Скорее – намеки, высказываемые бессвязно; намеки – на что?
– «Сергей Сергеевич, да о чем вы?»
– «Как о чем?.. Да о бомбе...»
Тут пресс-папье выпало: ужасы перешли за черту: пенталлионные тяжести обернулися газами.
Тяжести воспламенились; набившие тело булыжники, ставши газами, прыснули из отверстий всех пор, снова свили спирали событий, по свили в обратном порядке; закрутили и тело в спираль; ощущение стало
– «Я, Сергей Сергеевич, удивляюсь вам... Как могли вы поверить, чтобы я, чтобы я... мне приписывать согласье на подлость... Я – не подлец... Я, Сергей Сергеевич, – кажется, не отпетый мошенник...»
Николай Аполлонович не мог продолжать.
Из теневого угла, будто сроенная, выступала сутуло изогнутая фигура, со страдальчески усмехнувшимся ртом, василькового цвета глазами: а белольняные стоящие волосы образовали как нимбовый круг над блистающим, высочайшим челом; он стоял с разведенными кверху ладонями, негодующий, оскорбленный, приподнятый как-то на фоне обой: были красного цвета они.
Подпоручик Лихутин почувствовал тут, что со всей своей силою, здравостью (думал, что – здрав), с благородством, – лишь мреющий морок; и подпоручик стал явственно отступать.
– «Да я вам, я верю», – растерянно замахал он руками.
– «Я, видите ли», – окончательно законфузился он, – «не сомневался... Мне, право... Жена рассказала... Записку подкинули ей. Она и прочла – распечатала по ошибке», – солгал он, краснел; и – потупился...
– «Раз записка была распечатана», – придрался злорадно сенаторский сын, – «то...» – пожал он плечами, – «то Софья Петровна, конечно же, вправе была рассказать вам, как мужу, и самое содержание», – процеживал Николай Аполлонович; – продолжал наступать.
– «Я... я... погорячился», – защищался Лихутии: взгляд упал на злосчастную фалду; к фалде придрался.
– «Фалду, не беспокойтесь: я сам пришью...»
Но Николай Аполлонович укоризненно потряхивал ладонями в воздухе:
– «Не ведали, что творили».
И темно-синие очи его выражали прекрасную грусть:
– «Доносите, не верьте!..»
И – отвернулся...
Николай Аполлонович безудержно плакал; и Николай Аполлонович, освободившись от грубого страха, стал вовсе бесстрашным; хотел пострадать; чувства были разорваны, как разорвано «я»; из разрыва же «я» – ждал он – брызнет ослепительный светоч, и голос родимый оттуда к нему изречет, как всегда, – изречет в нем самом: для него самого:
– «Ты страдал за меня: я стою над тобою».
Но голоса не было. Светоча – не было. Была – тьма. Почему ж не было примиренного голоса: «Ты страдал за меня?» Потому что он ни за кого не страдал: он – страдал за себя... Так сказать, он расхлебывал им самим заваренную кашу из безобразных событий. Оттого и голоса не было. В месте прежнего «я» была тьма.
Отвернулся: он плакал.
– «Право же», – раздалось у него за спиной и примиренно, и кротко, – «ошибся, не понял я...»
– «Пользуясь своим физическим превосходством, вы меня... в присутствии дамы проволокли как...»
Сергей Сергеевич с протянутою рукой пересек кабинетик; но Николай Аполлонович, голосом, задушенным от его объявшего бешенства и от – увы! – самолюбия, пришедшего слишком поздно, отрывисто произнес:
– «Как... как... тютьку...»
Протяни ему руку он, – Сергей Сергеич почел бы себя счастливейшим человеком: на лице бы его заиграло полное благодушие; но порыв благородства, как бешенства, тут же закупорился.
– «Вы хотели, Сергей Сергеевич, убедиться?.. Что я – не отцеубийца?.. Нет, Сергей Сергеевич, нет: надо было подумать заранее... Вы же вот, как... как тютьку. И – оторвали мне фалду...»
– «Фалду можно подшить!»
И прежде чем Аблеухов опомнился, Сергей Сергеевич бросился к двери:
– «Маврушка!.. Черных ниток!.. Иголку!..»
Но раскрытая дверь чуть было не ударилась в Софью Петровну, которая тут за дверью подслушивала.
– «А?.. Сонечка...»
– «Софья Петровна!..»
– «Поди-ка... Вот Николай Аполлонович... Знаешь ли... оторвал себе фалду... Ему бы...»
– Не беспокойтесь, Сергей Сергеич, Софья Петровна...»
И Николай Аполлонович с перекошенным от глупого положения ртом, рукавом утирая ресницы и припадая на ногу, теперь появился уже в комнате с Фудзи-Ямами... в трепаном сюртуке и с одною висящею фалдою; поднял голову и, увидевши переплет потолка, перекошенный рот обратил на Лихутина:
– «Это я, Николай Аполлонович: я... чинил потолки...»
Но Николай Аполлонович, молча, хромал, уходя, – через зал; упадая с плеча, волочился за ним фантастический плащ...
ПАСИАНСИК
С этажерки отбрасывал глянец, как зеркало, чистенький самоварчик; самовар же, который кипел на столе, был не вычищен; новенький ставился при гостях; без гостей подавалось кривое уродище; катышки белого хлеба; и расплющились скатерти в пятнах; под недопитым стаканом прокисшего чая (прокисшего от лимона) сырело пятно; и стояла тарелка с объедками.
Ну где же роскошные волосы? Выдавалась косица.
Конечно же: Зоя Захаровна надевала парик (при гостях); вероятно, она беззастенчиво красилась (мы ее видели роскошноволосой брюнеткой с эмалированной, гладкою кожей; теперь перед нами была просто старая женщина с потным носом); на ней была кофточка: и, опять-таки, грязная (вероятно, ночная).
Липпанченко сидел, полуотвернувшись от столика, подставивши грязному самовару квадратную, сутуловатую спину. Перед разложенным пасиансиком, заставляющим предполагать, что Липпанченко после ужина принялся за обычное препровождение вечера; он – был потревожен: он – оторвался от карт; произошел разговор, во время которого были забыты: пасианс, и все прочее.
После же этого разговора Липпанченко повернулся спиною: спиной к разговору.
Сидел он без пиджака, с расстегнутым поясом, давившим живот, отчего меж жилетиком и съезжающими штанами предательски выдался язык неудобной сорочки.
Липпанченко задумчиво созерцал, как ползло с шелестением пятно таракана: огромное, черное; они водились в обилии.
– «Ну?.. И что же такое?.. И отчего же такое?»
– «Что?»
– «Неужели же верная женщина, сорокалетняя женщина, – женщина такая, как я...»
А локоть был прорван: виднелася поблеклая кожа; на ней, вероятно, блошиный укус.
– «Что такое лепечете, матушка: говорите яснее...»
– «Такая, как я, не имеет права спросить?»
Липпанченко повернулся на кресле.
Видимо, слова поза дели; и на мгновение выступило на лице подобие гнетущего угрызения: поморгал двумя глазками; видимо, он хотел что-то высказать; и видимо, – высказать он боялся: медленно соображал.
Но позывы к правдивости оборвались.
– «Гм: да, да... На шестерку пятерку... Где дама?.. Тут дама... Заложен валет...»
Вдруг он бросил на Зою Захаровну испытующий взгляд, и короткие пальцы, поросшие золотистою шерстью, перенесли стопочку карт – к другой стопочке карт.
– «Ну, – и выдался пасиансик...»
– «Чего же сердиться?»
Теперь, припадая на туфли, она заходила по комнате; и раздавалось пришлепыванье (тараканий ус спрятался в щель).
И, выпячивая корсетом не стянутый свой живот, на ходу трепетала свисающим подбородком:
– «Спросили бы лучше то, почему я вас спрашиваю?.. Потому что все спрашивают... Пожимают плечами... Так уж думаю я», – навалилась на кресло она животом и грудями, – «мне лучше знать...»
Но Липпанченко, закусивши губы и раскладывая, открывал ряд за рядом.
Он помнил, что завтрашний день – предстоит: если он не сумеет стряхнуть угрожающей тяжести обрушенных документов, ему – шах и мат:
– «Гм!.. Свободное место... короля в свободное место...»
– «Говорите, что спрашивают?..»
– «А вы думали – нет?»
Липпанченко бросил карты:
– «Не выйдет: заложены двойки...»
Из спальни Липпанченко звякнуло, будто там открывали окошко: кто мог это быть?
Верно, – Том, сенбернар.
– «Да поймите, что ваши вопросы», – Липпанченко, охая, встал, – «нарушают партийную...» – отхлебнул глоток кислого чая, – «ну, там, дисциплину...»
Потягиваясь, прошел в открытую дверь, – в темноту...
– «Да какая же, Коленька, со мной дисциплина», – и Зоя Захаровна опустила вниз голову, продолжая стоять над пустым теперь креслом... – «Подумайте только...»
Она замолчала; и кресло – пустело; Липпанченко оттопатывал по направлению к спальне.
– «Меж нами тайн не было...», – сказала себе.
Тотчас же повернула голову к двери, взволнованно заговорила навстречу.
– «Вы же сами не предупредили, что, в сущности [(Липпанченко появился в дверях), что у вас теперь тайны».
– «Так: в спальне нет никого», – перебил он ее...
Рот скучающе разорвался в зевоте; расстегивая жилет, недовольно пробормотал себе в нос:
– «Ну, к чему эти сцены?»
– «Что такое я сделала, Коленька?.. Разве я не люблю?.. Разве я не боюсь?»
Она обвилась вокруг шеи руками.
Увидел он у себя на лице ее пористый нос; поры лоснились потом: несвежая кожа! Глаза вылуплялись, назойливо лезли, казалися черными пуговицами: не светились.
– «Оставьте... Довольно же... Зоя Захаровна... Отпустите... Задушите...»
Охватил ее руки и снял с своей шеи:
– «Вы знаете, какой я сентиментальный и слабонервный... я...»
Они замолчали.
В тяжелом безмолвии, после долгого, безотрадного разговора, когда все уже сказано, – перемывала стакан, блюдце, чайные ложки.
Он же сидел, полуотвернувшись от столика, подставляя и Зое Захаровне, и самовару квадратную спину.
Обеспокоенные глаза обеспокоенно побежали по скатерти, вскарабкались на эту толстую грудь; когда он повернулся, вломились в моргавшие глазки; и – что время сделало?
Светло-карие глазки, блестящие юмором и лукавой веселостью в двадцать пять лет, потускнели, вдавились, подернулись угрожающей пеленой; позатянулися дымами атмосфер: темно-желтых, желто-шафранных; да, двадцать пять лет – срок немалый, но все-таки – так поблекнуть, так съежиться! А под глазками двадцатипятилетие оттянуло мешки; цвет лица ожелтился, промаслился, свял – ужасал серой бледностью трупа; а лоб, он – зарос; и – выросли уши; ведь бывают же приличные старики? А он – не старик...
Белокурый, двадцатилетний парижский студент – • студент Липенский, – разбухая до бреда, двадцатилетием превращался в сорокапятилетнее, неприличное брюхо: в Липпанченко.
НЕВЫРАЗИМЫЕ СМЫСЛЫ
На песчанистом побережье морщинилось озерцо соленой воды.
С залива летели там белогривые полосы; луна освещала их; за полосой полоса там вскипала вдали, громыхала вдали; потом – падала, подлетая у берега клочковатою пеной; и – стлалась по плоскому берегу, облизывала пески; срезывала, их точила; как тонкое лезвие, понеслась по пескам; доплескивалась до соленого озерца; наливала в него раствор соли.
Бежала обратно.
В некотором отдаленье от моря тянулися суковатые руки кустов; подымались в пространство свистящими взмахами; черноватенькая фигурка без шапки бежала меж них; скрежет, стон подымались от этого места; коряги тянулися – из тумана и сырости; узловатая заломалась рука, исходящая жердями, как шерстью.
Фигурка склонилась к дуплу – в пелену черной сырости.
– «Ты, душа моя, отошла от меня... бедный я...»
Встало из сердца:
– «Вспомни меня: бедный я...»
Подрагивала светлая точечка у горизонта морского; то близилась к Петербургу торговая шхуна; – вызревал огонек, наливался светом, как колос, усатый лучами.
Вот он превратился в широкую полосу, за собой вычерчивая темный кузов судна; и над ним – лес снастей.
Подлетели под месяцем деревянные, многожердистые руки; голова кустяная тянулась в пространство, качая сеть черненьких веточек; месяц запутался в сети; и – ослепительней в ней засверкал: наполнились фосфорическим блеском воздушные промежутки из сучьев; из них сложилось громадное тело, горящее фосфором с купоросного цвета плащом, отлетающим в туманистый дым; повелительная рука, указывая в грядущее, протянулась по направлению к огоньку из дачного садика, где упругие жерди кустов ударялись в решетку.
Фигурочка остановилась и умоляюще протянулася к фосфорическим промежуткам из сучьев, слагающим тело:
– «Нельзя же – по одному подозрению, без объяснения...»
Рука – указывала на световое окошко.
Фигурка тут пробежала в пространство, ударилась грудью в решетку какого-то садика, перелезла через забор и беззвучно скользила, цепляясь ногами о росянистые травы, – к той серенькой дачке.
Подкралась к террасе; и – в два скачка, оказалась у двери; приникла к окну; там – ширился свет.
Там сидели... –
Липпанченко облокотился на стол; другая же рука – отогнулась и разогнула ладонь; поражала короткость будто бы обрубленных пальцев, испорченных заусенцами, с краскою на ногтях... –
– Фигурочка отлетела от двери и – очутилась в кустах; ее охватил порыв жалости.
– «Ведь нельзя же так просто...»
ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
Повернувшись всем корпусом, вдруг Липпанченко протянул свою руку – представьте! – к на стенке повешенной скрипке:
– «Возвращаешься домой, отдохнуть, а тут – нате же...»
Он достал канифоль; со свирепостью накинулся на кусок канифоли; и с виноватой гримаскою, не подходящей к его положению в партии, он принялся о канифоль натирать свой смычок.
– «Встречают слезами...»
Скрипку же он прижал к животу и над ней изогнулся, упирая в колени широким концом; узкий конец он вдавил в подбородок; одною рукою натягивал струны, другой – . извлек звук:
– «Дон!»
А голова его выгнулась и склонилася набок при этом; и вопросительным выражением не то шутовским, не то жалобным поглядел он на Зою Захаровну; будто бы спрашивал:
– «Слышите?»
Она села на стул: с умиленным лицом; поглядела на палец Липпанченко; палец пробовал струны; и струны – теренькали.
– «Так-то лучше!»
Кивнули друг другу; он – с помолодевшим задором; она же – с конфузливостью.
– «Ах, какой вы...»
– «Трень-трень...»
– «Неисправимый ребенок!»
И, несмотря на то, что Липпанченко выглядел носорогом, он ловким движением кисти левой руки переверну т свою скрипку; и в угол между плечом и упавшею головой теперь вдвинулся ее широкий конец; край остался в забегавших пальцах:
– «А нуте-ка».
Подлетала рука со смычком, замерла; и – нежнейшим движением прикоснулась к струне; поехал смычок; за смычком – вся рука; за рукой – голова, толстый корпус: все – набок поехало.
Кресло треснуло под Липпапченкой, который натужился в крепком упорстве: издать нежный звук; сипловатый и все же приятный басок неожиданно огласил эту комнату:
– «Не ии-скууу-шаай», – пел Липпанченко.
– «Меняя беез пууу-уууу...» – подхватили скрипичпые струны.
– «Жды»*193, – пел набок Липпанченко.
В молодые годы певали подолгу тот старый романс.
– «Тссс!»
– «Послушай?»
– «Окошко?..»
– «Надо пойти: посмотреть».
Встала луна. из-за облака; все, что стояло, как тусклость, – разъялось; скелеты кустов прочернились: косматыми клочьями повалились их тени; воздушные пятна сложилися в тело, горящее фосфором, протягивающее руку к окну; фигурочка к окну подскочила; окно же не было заперто; отворяясь, оио продребезжало чуть-чуть.
В окнах двинулись тени; кто-то шел со свечой – в занавешенных окнах; осветилось незапертое – окно; отдернулась занавеска; толстая постояла фигура и поглядела: казалось, глядит подбородок (глаза не были видны); темнели две орбиты; две безбровные надбровные дуги пролоснились под луной. Занавеска задвинулась; кто-то, толстый, обратно прошел в занавешенных окнах; скоро все успокоилось. Дребезжание скрипки и голоса исходили из дачки.
От дуплистого стволика отделилась фигурка; вторично подкралась к окошку.
– «Разоо-чаа-роо...ваннооо-му... чуу-уу-жды... все оболыценья прееежних... днееей... Ууж яя... нее... веерюю в уу-вее-реенья...»
– «Уж яя... не вее-рую в люю-бовь...»
Знал ли он, что поет? Нет, лобная кость не знала: лоб – маленький, в поперечных морщинах: казалось, оп плачет.
Так спел лебединую песню Липпанченко.
Наконец, взяв свечу, он отправился в спальню, по на пороге он нерешительно повернулся, вздохнул и над чем-то задумался; вся фигура Липпанченко выразила неизъяснимую грусть.
Свечка врезалась в комнату; кромешная темнота разорвалась; по периферии пламенно плясавшего центра вертелись какие-то куски темноты; а за темными косяками, тенями предметов – тень, темный, огромный толстяк, вырвавшийся из-под пяток Липпанченко, суетливым движением припустился по кругу.
Между стеною, столом, безобразный, беззвучный толстяк перепрокинулся, на косяках изломался, мучительно разорвался.
Так: извергнувши, как ненужный балласт, свое тело – бывает подхвачена ураганами душевных движений душа; бегает по душевным пространствам; да, тело – суденышко, уплывающее по душевному океану – к какому-то материку.
Так... –
Представьте: в поясе тело ваше перевяжут канатом, завертят кацат с неописуемой быстротой; на расширяющихся кругах полетите вы головою вниз, спиной – поступательно; будете отлетать в мировые безмерности, одолевая пространства – пространствами становясь.
Вы, таким ураганом подхвачены, когда тело извергнется, как ненужный балласт.
Вы представьте: пункт тела испытывает стремление распространиться без меры, распространиться до ужаса (и занять в поперечнике место, равное сатурновой орбите); представьте себе, что вы ощущаете сознательно не один только пункт, а все пункты; они поразбухли, – разрежены в газообразное состояние; планеты зациркулировали свободно в пустотах телесных молекул; центростремительное ощущение утрачено; мы – разорвались на части; и целостно только сознание о разорванных ощущениях.
Что бы мы ощутили?
Ощутили бы мы: что разъятые органы отделены друг от друга ужасными миллиардами верст; но сознание вяжет кричащее безобразие – в одновременной бесцельности; в позвоночнике слышим: кипение сатурновых масс; в мозг въедаются: звезды созвездий; в центре кипящего сердца мы слышим больные толчки, – всего солнца; солнечные потоки огня, разлетаясь от солнца, не достигли бы поверхности сердца, коль вдвинулось солнце в этот огненный, бестолково бьющийся центр.
Если бы мы могли себе это представить, пред нами бы встали первые стадии предощущений Липпанченки, стоявшего на пороге двух комнат.
ТАРАКАНЫ
Липпанченко остановился со свечкою: косяки теневые остановились с ним вместе; теневой же громадный толстяк (липпанченская душа) головою висел в потолке; но к собственной тени Липпанченко не почувствовал интереса; интересовался он шелестом, и незагадочным вовсе.
Он чувствовал отвращение к тараканам; и теперь: в темные свои, шелестя, побежали углы они, накрытые светом свечки.
И – злился Липпанченко:
Протопал он к углу: за полотерного щеткой.
Он на пол поставил свечу; с полотерною щеткой в руке взгромоздился на стул, и тяжелое тело его выдавалось над стулом; и лопались от усилья сосуды, взъерошились волосы; за уползающими горстями гонялся щетинистым краем швабры; раз, два, три! и – щелкало под шваброю: на потолке, на стене:
– «Восемь... Десять... Одиннадцать» – и, щелкая, пятна падали на пол.
Перед отходом ко сну он давил тараканов. Надавивши их кучу, отправился спать.
Вот ввалился он в спаленку, дверь защелкнул на ключ, поглядел под постель (с некоторого времени тот обычай укоренился в нем); перед собою поставил оплывшую свечку.
Разделся.
Сидел на постели теперь, волосатый и голый, расставивши ноги; женообразные округлые формы отметились на лохматой груди.
Спал Липпанченко голый.
Наискось от свечи, меж оконной стеною и шкафчиком, в теневой темной нише – замысловатое очертание здесь висящих штанов; неоднократно Липпанченко штаны перевешивал; и всегда выходило: подобие – отсюда глядящего.
А когда задул свечку, то очертание дрогнуло и проступило отчетливей; руку Липпанченко протянул к занавеске окна; отлетающий коленкор прошуршал: и комната просияла свечением меди: из белого олова тучек диск грянул по комнате: и... –
На фоне зеленой и будто бы купоросной стены – появилась фигурочка, в пальтеце; и белыми улыбалась губами, как клоун. Липпанченко, протопотав животом и грудями, с размаху расплющился на двери (он забыл, что дверь запер); струя кипятка полоснула по голой спине от лопаток до зада; падая, понял: разрезали спину (так режется безволосая кожа холодного поросенка под хреном); едва это понял – почувствовал струю кипятка – у себя под пупком.
И оттуда шипело; и думалось – где-то, что – газы (живот был распорот); склонив голову над колыхавшимся животом, он осел, ощупывая текущие липкости – на животе и на простыне.
Это было последним сознательным впечатлением обыденной действительности; сознание ширилось; чудовищная периферия сознания в себя всосала планеты; и ощущала их – друг от друга разъятыми органами, солнце плавало в расширениях сердца; и позвоночник калился прикосновением сатурновых масс; в животе открылся вулкан.
А тело сидело бессмысленно с упадающей на грудь головой и глазами уставилось в рассеченный живот; вдруг оно завалилося – животом в простыню; рука свесилась над окровавленным ковриком, отливая в луне рыжеватою шерстью; голова же с висящей челюстью откинулась по направлению к двери; глядела на дверь неморгавшим зрачком; на белеющей простыне проступал отпечаток пяти окровавленных пальцев; и толстая пятка торчала.
А утром вошли: но Липпанченки уже не было; была – лужа крови; был – труп; и – фигурка, смеющаяся белым лицом; у нее были усики; они вздернулись; странно: мужчина на мертвеца сел верхом; он сжимал в руке ножницы; руку простер он*194, а по лицу – через нос, по губам – уползало пятно таракана.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ,
и последняя.|
Минувшее проходит предо мною... Давно ль оно неслось, событий полно, Волнуяся, как море-окиян? Теперь оно безмолвно и спокойно: Не много лиц мне память сохранила, Не много слов доходит до меня...*195 |
НО СПЕРВА...
– Эти двадцать четыре часа! –
– эти двадцать четыре часа повествованья расширились и раскидались в душевных пространствах: в душевных пространствах запутался авторский взор.
Мозговые, свинцовые игры тащилися в замкнутом кругозоре, по кругу, очерченному старательно нами, – – в те двадцать четыре часа!..
Весть об Анне Петровне порхнула откуда-то. Мы – забыли, что Анна Петровна – вернулась.
Те двадцать четыре часа!..
То есть сутки: понятие – относительное, где миг –
– или – что-либо, определяемое полнотою душевных событий, есть час, либо – ноль: переживание разрастается, пли – отсутствует: в миге...
Прибытие Анны Петровны есть факт; и – огромный; мы, автор, об Анне Петровне забыли; как водится, вслед за нами об Анне Петровне забыли – герои романа.
И все-таки... –
Анна Петровна: вернулася; но о событиях – не подозревала она: лишь одно происшествие волновало: записок посыльных к ней не было; на происшествие не обратили внимания – ни Николай Аполлонович, ни Аполлон Аполлонович.
Великолепного тона гостиница заключала ее в своем маленьком номерочке; и Анна Петровна часами сидела на стуле, уставившись в крапы обой; они лезли в глаза; и глаза – переводила – к окну; а окно выходило на стену оливковатых оттенков, где вместо неба был – дым; лишь в окошке там, наискось, виделись груды немытых тарелок, лохань.
И звонила она; и какая-то появлялась вертунья.
И Анна Петровна изволила спрашивать:
– Thé complet»14
Появлялся лакей в черном фраке, в крахмале, в блистающем галстухе – с преогромным подносом, поставленным на ладонь и плечо, он окидывал номерок, неумело подшитое платье, испанские тряпки, лежащие на двуспальной кровати, потрепанный чемоданчик; срывал с своих плеч преогромный поднос: и упадал «thé complet». И лакей удалялся.
И – никого, ничего: те же хохот, возня из соседнего номера; разговоры двух горничных – в коридоре; глаза переводила к окну, а окно выходило на стену оливковатых оттенков, где вместо неба был дым –
– (вдруг раздался стук в дверь; и Анна Петровна растерянно расплескала свой чай на салфетки подноса) –
– в окошке там, наискось, виделись груды грязных салфеток, лохань.
Горничная подала ей визитную карточку; Анна Петровна приподнялась из-за столика; жестом ее было быстрое движенье руки, оправляющей волоса.
– «Где они?»
– «В коридоре».
– «Просите».
И слышалися – возня из соседнего номера, разговоры двух горничных в коридоре, рояль; и – быстро бегущие к двери шага; Аполлон Аполлонович Аблеухов, не переступая порога, все силился что-либо разобрать в полусумерках; первое, что он увидел – стена оливковатых оттенков, глядящая за окном; и – дым вместо неба: в окошке там, наискось, виделись груды грязных тарелок, лохань.
Первое, что бросилось на него, было скудною обстановкою номерочка; этакий номерок в перворазрядном отеле?
Что ж такого? Тут нечему удивляться; номерочки такие бывают во всех перворазрядных отелях – перворазрядных столиц. Да, да: «Premier ordre – depuis 3 francs»15 – боже вас сохрани!
Вот – постель, стол и стул; на постели же – ридикюльчик, ремни, кружевной черный веер, граненая венецианская вазочка, перевернутая – представьте – чулком (чистейшего шелка), комочек лимонного цвета лоскутьев; все то – сувениры Гренады, Толедо; –
– три же тысячи рублей серебром, высланные недавно в Гренаду, не могли быть получены – даме ее
Выступил силуэт; сердце сжалось: на стуле
– и нет, не на стуле! – увидел он Анну Петровну, осевшую, пополневшую, с проседью; первое, что он понял, был факт: выступил из-под ворота подбородок; и выступил округленный живот; два лазурью наполненных глаза когда-то прекрасного личика там блистали попрежнему.
Аполлон Аполлонович мял в руке шляпу, глазами забегал по комнате, где разбросаны были – ремни, кружевной черный веер, чулочек, комок очень-очень лимонно-желтых лоскутьев, испанских.
Два с половиною года его изменили; два с половиною года перед собой она видела выточенное из камня лицо над перламутровым столиком (во время последнего объяснения) ; а теперь, на лице – полное отсутствие черт.
Два с половиною года тому назад Аполлон Аполлонович был стариком, но... в нем было без летное; выглядел – мужем; теперь? Где железная воля, где каменность взора? Нет, старик перевешивал все: поражала его худоба; поражали: сутуловатость, дрожание челюсти, пальцев; и – цвет пальто: никогда он при ней не заказывал этого цвета пальто.
Наконец Аполлон Аполлонович поднял голову и сказал, запинаяся:
– «Анна Петровна!»
Черты ее просветились; вся как-то рванулась навстречу; но все же: не тронулась с места.
Но Аполлон Аполлонович побежал ей навстречу – в пальтеце и со шляпой в руке; его голая, как колено, поверхность громадного черепа да два оттопыренных уха напоминали что-то, а губы коснулись руки.
А когда разогнулся он, то фигурка его перед пей выдавалася брючками, пальтецом и морщинками; два вылезающих глаза не показались камнями.
Аполлон Аполлонович искал выражений:
– «Я, знае...» – подумал и кончил: – «те ли...»
– «?»
– «Приехал вам засвидетельствовать почтенье...»
И Анна Петровна поймала растерянный, мягкий, сочувственный взгляд – василькового цвета.
– «У нас...» –
– «Начинается забастовка...»
КАЧАЛОСЬ ПОД ГРУДОЙ ПРЕДМЕТОВ...
Тут дверь распахнулася.
Николай Аполлонович очутился в передней, из которой с такой поспешностью он бежал; на стенах разблистался орнамент старинных оружий: ржавели мечи; там – склоненные алебарды: Николай Аполлонович выглядел вне себя; резким взмахом руки он сорвал итальянскую шляпу с полями; и сухо, и холодно, четко теперь выступали линии белого лика, подобно иконописному, когда на мгновенье задумался он, устремляя взор свой туда, где под ржаво-зеленым щитом проблистала своим шишаком литовская шапка и проискрилась крестообразная рукоять рыцарского меча.
Вот он вспыхнул; в измятой накидке, прихрамывая, взлетел по ступеням коврами здесь устланной лестницы; он' – задыхался; и – лихорадка трясла его: в самом деле – простаивать под дождем; любопытней всего, что с колена ноги, на которую он прихрамывал, сукно было содрано; и – трепался лоскут; между целою и оторванной фалдою пляшущий хлястик ведь выдавался наружу; и выглядел Николай Аполлонович хромоногим, горбатым, и – с хвостиком, когда полетел, что есть мочи, по мягкой ступенчатой лестнице, провеявши шапкою белольняных волос – мимо стен, где клонились пистоль с шестопером.
Влетел сам не свой в свою пеструю комнату: и отчаянно вскрикнули в клетке, забили крылами зеленые попугайчики; крик прервал его бег; на мгновенье уставился он пред собой; и увидел он: пестрого леопарда, брошенного к ногам с разинутой пастью; зашарил в карманах (отыскивал ключик от письменного стола).
– «А?»
– «Черт возьми...»
– «Потерял?»
И беспомощно заметался по комнате, разыскивая забытый предательский ключик, перебирая предметы убранства, схвативши трехногую золотую курильницу, бормоча сам с собой: Николай Аполлонович, как Аполлон Аполлонович, сам с собой разговаривал.
Кинулся в соседнюю комнату – к письменному столу: зацепил за арабскую табуретку и – грохнула на пол; его поразило, что стол был не заперт; и выдавался предательски ящик; он был полу вы двинут; сердце упало: как мог позабыть запереть? Дернул ящик... И-и-и...
Нет: да нет же!
В ящике в беспорядке лежали предметы: портрет кабинетных размеров; сардинницы не было; выступали над ящиком линии лика с очерченностью черных каких-то очей: от расширенности зрачков; .так стоял оп меж креслом и бюстом: конечно же, – разумеется, – Канта.
Он – выдвинул ящик; в порядке лежали связки писем, бумаги; все – на стол; но... – сардинницы не было...; ноги его подкосилися; в итальянской накидке, в калошах, – упал на колени, роняя горящую голову на просыревшие руки; так замер он: шапка волос мертвенела странно – пятном: в полусумерках комнаты.
Да – как вскочит! Да – к шкафу! И шкаф – распахнулся; и на ковер полетели предметы: сардинницы не было; он, как вихрь, заметался по комнате, напоминая стремительностью движений высокопревосходительного папашу; шутила судьба; от постели, (здесь рылся он под подушками) и к камину; руки он перепачкал; к рядам нижних полок: просовывал руки меж книгами; многие томы теперь с шелестением полетели.
Сардинницы не было.
И лицо, перепачканное золою и пылью, без всякого толка качалось над кучею сваленных в груду предметов, перебираемых длинными паучьими пальцами, выбегающими на руках; руки ерзали по полу из итальянской накидки; дрожащий и потный, напоминал бы всякому толстобрюхого паука, поедателя мух; так, когда разорвет наблюдатель тончайшую паутину, то видит он зрелище: обеспокоенное громадное насекомое, продрожав, с потолка и до полу, забегает по полу.
Николай Аполлонович был застигнут врасплох:
– «Николай Аполлонович!..»
Николай Аполлонович, сидя на корточках, повернулся; увидев Семеныча, он накидкою накрыл груду предметов – напоминая наседку на яйцах:
– «Осмелюсь я доложить...»
– «Как видите: занят!»
Растянувши рот до ушей, весь напомнил: голову леопарда, оскаленного на полу:
– «Разбираю, вот, книги».
И – Николай Аполлонович машинально привстал: на перепачканном золой лике – и пепел, и пыль; молнией тут вспыхнул румянец: и – Николай Аполлонович представлял собою смешную фигурку, – в студенческом сюртуке об одной только фалде – и с хлястиком.
– «Мама? Анна Петровна?»
– «С Аполлоном Аполлоновичем они там-с: в гостиной... Только что изволили...»
В этой комнате так недавно еще Николай Аполлонович вырастал в себе предоставленный центр – в серию из центра истекающих логических предпосылок, предопределяющих все: душу, мысль и это вот кресло; так недавно еще он являлся здесь единственным центром вселенной; по прошло десять дней; и самосознание его позорно теперь увязало в сваленной куче предметов: так свободная муха, перебегающая по краю тарелки на шести своих лапках, безысходно вдруг увязает и лапкой, и крылышком в липкой гуще медовой.
– «Тсс! Семеныч, Семеныч – послушайте», – Николай Аполлонович прытко выюркнул тут из двери, нагоняя Семеныча, перепрыгнул через опрокинутую табуретку и вцепился в рукав старика (ну, и цепкие ж пальцы!).
– «Не видали ль вы здесь – дело в том, что...» – запутался он, приседая к земле и оттягивая старика от коридорной от двери, – «забыл я... Эдакого здесь предмета не видели ли вы? Здесь в кабинете... Предмета такого: игрушку...»
– «Игрушку-с?»
– «Детскую игрушку... сардинницу...»
– «Сардинницу?»
– «Да, игрушку (в виде сардинницы) – тяжелую весом, с заводом: еще тикают часики... Я ее положил тут: игрушку...»
Семеныч медленно повернулся, высвободил свой рукав от прицепившихся пальцев, на мгновенье уставился в стену (на стене висел щит – негритянский: из брони когда-то павшего носорога), подумал и неуважительно так отрезал:
– «Нет!»
Даже не «нет-с»: просто «нет...»
– «А я, таки, думал...»
Вот подите: благополучие, семейная радость; сияет сам барин,
– «Так позволите доложить?»
– «Я – сейчас, я сейчас...»
И дверь затворилась: Николай Аполлонович тут стоял, не понимая, где он, – у опрокинутой темно-коричневой табуретки, перед кальянным прибором; перед ним на стене висел щит, негритянский, из серо-черной кожи павшего носорога и с привешенной сбоку суданскою ржавой стрелой.
Не понимая, что делает, поспешил он сменить предательский сюртучок на сюртук совсем новенький; предварительно же отмыл руки он и лицо от золы; умываясь и одеваясь, приговаривал он:
– «Как же это такое, что же это такое... Куда же я, в самом деле, упрятал...»
Николай Аполлонович не сознавал еще всей полноты на него напавшего ужаса, вытекающего из случайной пропажи сардинницы; хорошо еще, что пока не пришло ему в голову:
УДИВИЛИСЬ ЛАКЕИ
И такие же точно там возвышались дома, и такие же серые проходили там токи людские, и такой же стоял там зелено-желтый туман; сосредоточенно побежали там лица; тротуары шептались и шаркали – под ватагою каменных великанов – домов; им навстречу летели – проспект за проспектом; и сферическая поверхность планеты казалась охваченной, как змеиными кольцами, черновато-серыми дымовыми клубами; и сеть параллельных проспектов, в мировые ширилась бездны поверхностями квадратов и кубов: по квадрату на обывателя.
Но Аполлон Аполлонович не глядел на любимую свою фигуру: квадрат; не предавался бездумному созерцанию каменных параллелепипедов, кубов; покачиваясь на мягках подушках сиденья наемной кареты, он с волнением поглядывал на Анну Петровну, которую вез он сам – в лакированный дом; что такое за чаем они говорили там в номере, навсегда осталось для всех непроницаемой тайной; после этого разговора и решили они: Анна Петровна завтра же переезжает на Набережную; а сегодня вез Аполлон Аполлонович Анну Петровну – на свидание с сыном.
И Анна Петровна конфузилась.
В карете не говорили они; Анна Петровна глядела там в окна кареты: два с половиною года не видала она этих серых проспектов: там, за окнами, виднелась домовая нумерация; и шла циркуляция; там, оттуда – в ясные дин, издалека-далека, сверкали слепительно: золотая игла, облака, луч багровый заката; там, оттуда, в туманные дни – никого, ничего.
Аполлон Аполлонович с нескрываемым удовольствием привалился к стенкам кареты, отграниченный, в замкнутом кубе; порхал он глазами; иногда только Анна Петровна ловила: растерянный, недоумевающий взор, и представьте себе – просто мягкий какой-то: синий-синий, ребяческий, неосмысленный даже (не впадал ли он в детство?) .
– «Слышала я, Аполлон Аполлонович: вас прочат в министры?»
Но Аполлон Аполлонович перебил:
– «Вы теперь откуда же, Анна Петровна?»
– «Да я из Гренады...»
– «Так-с, так-с, так-с...» – и, сморкаясь – прибавил... – «Да знаете ли, дела: служебные, знаете, неприятности...»
И – что такое? На руке своей ощутил он теплую руку: его погладили по руке... Гм-гм-гм: Аполлон Аполлонович растерялся; сконфузился, перепугался даже он както; даже стало ему неприятно... Гм-гм: лет пятнадцать уже не обращались с ним так... Таки прямо погладила... Этого он, признаться, не ждал от особы., гм-гм... (Аполлон Аполлонович эти два с половиною года особу считал за... особу... легкого... поведения...)
– «Выхожу, вот, в отставку...»
Леты, грохоты трепетавших пролеток! Мелодичные возгласы автомобильных рулад! И – наряд полицейских!..
Там, где взвесилась только одна бледно-серая гнилость, матово намечался сперва и потом наметился вовсе: грязноватый, черновато-серый Исакий... И ушел обратно в туман. И – открылся простор: глубина, зеленоватая муть, куда убегал черный мост, где туман занавесил холодные многотрубные дали и откуда бежала волна набегающих облаков.
В самом деле: ведь вот – удивились лакеи!
Так рассказывал после в передней дежуривший: Гришка – мальчишка:
– «Я сижу, да считаю вот: от Покрова от самого – до Рождества богородицы... Это, значит, выходит... От Рождества богородицы – до Николы до зимнего*196...»
– «Да рассказывай ты, Рождество богородицы!»
– «Так что – будет: считаю...; подъехали; я – к дверям. Распахнул, значит, дверь: и – ах, батюшки! Так что барин сам, в наемной каретишке; так что барыня лет почтенных в дешевеньком ватерпруфе*197».
– «Не в ватерпруфе, пострел: ватерпруфов не носят».
– «Ну одним словом – в пальте. Барин же соскочил; руку – барыне: кавалерственно всякую помощь оказывает».
– «Ишь ты...»
– «То же...»
– «Я думаю, не видались два года», – раздалися вокруг голоса.
– «Само собой: барыня из кареты выходит; только барыня – не в своем в полном виде; за подбородок хватаются; на перчатках-то дыры не штопаны; может, в Гишпании не штопают их».
– «Ладно!...»
– «Барин же наш, Аполлон Аполлонович, авантажность посбросили; стоят у кареты, над лужею, под дождем; – бог ты мой! А как барыня на руку на их навалилась, то барин-то наш весь присел; ну, куды же им, думаю, грузную такую сдержать!»
– «Не плети белиндрясов!»
– «Я так говорю; да и што говорить... Тут вот Митрий Семеныч расскажет!»
– «Ну что ж?»
– «Постарели... Спервоначалу-то не узнал; а потом их узнал, потому еще помню: гостинцем кормила».
Действительно!
Анна Петровна и Аполлон Аполлонович были взволнованы объясненьем друг с другом; и при вступлении в лакированный дом не обменялися излияньями чувств; Аполлон Аполлонович стал сморкаться... под ржавою алебардою, пофыркивать в бачки. Анна Петровна милостиво изволила отвечать на поклоны лакеев; Семеныча она обняла и как будто хотела поплакать, но... но платка не достала.
Аполлон Аполлонович выдерживал тон равнодушия: ничего не случилось! Ну, вот – и прекрасно!
Впрочем, был тут лакей; этот – помнил, какими манерами совершала тут барыня заграничный отъезд: с саквояжем в руках; накануне ж отъезда – она запиралась от барина: сидел у нее
Вот – в зале; здесь редко топили; ведь Аполлон Аполлонович более все сидел у себя в кабинете; и теперь он подумал, что он – не один: здесь расхаживать будет он... с Анной Петровной: по лаковым гулким квадратикам пола.
С Николенькой по квадратикам Аполлон Аполлонович расхаживал редко: почти никогда!
Согнув кренделем руку, повел через зал; скоро Айна Петровна остановила его, показывая на бледнотонную живопись:
– «Помните, Аполлон Аполлонович, эту фреску?»
– «А как же-с!..»
– «Где?»
Воспоминание о туманной лагуне, об арии, рыдающей в отдалении, охватило его: тому назад тридцать лет. Воспоминания и ее охватили; раздвоились: тому назад – тридцать лет; и – Коленька...
– «Коленька...»
Тут вступили в гостиную; бросились горки фарфоровых безделушек и листики инкрустации – перламутра и бронзы.
– «А Коленька, ничего себе... так себе... поживает себе», – отбежал – как-то вбок.
– «Отчего он ко мне не приехал?»
– «Он, Анна Петровна... мме-емме... был, в свою очередь, очень-очень», – запутался странно сенатор, достал свой платок: очень долго сморкался.
– «Был он обрадован».
Наступило молчание. Лысая голова закачалася под длинноногою бронзою.
На звонок появился Семеныч:
– «Николай Аполлонович дома?»
– «Точно так-с...»
«Мм... послушайте: скажите, что Анна Петровна – у нас!»
– «Может быть, сами пойдем к нему», – заволновалася Анна Петровна, но Аполлон Аполлонович, повернувшись к Семенычу, перебил:
– «Ме-емме... Семеныч: скажу-ка я...»
– «Слушаю-с!..»
– «Ведь жена-то халдея – я полагаю – кто будет?»
– «Халдейка-с...»
– «Нет халда!..»
– Хе-хе-хе-с...»
– «Коленька ведет себя – не волнуйтесь – ведет себя – не волнуйтесь же – странно...»
– «?»
Золотые трюмо из простенков глотали гостиную поверхностями зеркал.
– «Коленька стал как-то скрытен... Кхе-кхе», – и, закашлявшись, Аполлон Аполлонович пробарабанил рукою по столику, что-то вспомнил – нахмурился, стал рукою тереть переносицу; впрочем, быстро опомнился: и с чрезмерной веселостью выкрикнул:
– «Впрочем – нет: ничего-с... Пустяки».
БЫЛО СПЛОШНОЕ БЕССМЫСЛИЕ
Николай Аполлонович, перемогая сильнейшую боль в подколенном суставе (таки порасшибся), – прихрамывал: перебегал коридор.
Вихри мыслей и смыслов обуревали его; или даже не вихри смыслов: бессмыслия; если бы хоть на миг задержали крутящийся вихрь в голове Аблеухова, то бессмыслие разрядилось бы мыслями.
Вот они: –
Мысль об ужасе его положения; ужасное положение – создалось теперь (вследствие пропажи сардинницы); сардинница, то есть бомба – пропала; и, стало быть: кто-то бомбу унес; и его – арестуют; но это – не главное; бомбу унес – Аполлон Аполлонович сам; унес в тог момент, когда с бомбою счеты покончены; и он – все знает.
Все – что такое? Ничего-то и не было. Не было плана убийства; Николай Аполлонович отрицает решительно: гнусная клевета – этот план.
Остается факт бомбы.
Раз отец его призывает, раз мать его – нет, не может знать: бомбы не уносил он из комнаты. Да и лакеи... Лакеи бы уж давно обнаружили. А никто – ничего. Нет, про бомбу не знают. Но – где она, где? Точно ли он засунул в тот стол, не подложил ли куда-нибудь под ковер, машинально, случайно:
С ним такое бывало.
Через неделю сама обнаружится... Впрочем, нет: о присутствии заявит сегодня – ужаснейшим грохотом (грохотов Аблеуховы не могли выносить).
Может быть, – под ковром, под подушкой, на полочке, загрохочет и лопнет; и – надо бомбу найти; а времени нет на поиски: Анна Петровна.
Ах, все спуталось: вихри мыслей крутились с нечеловеческой быстротой и шумели в ушах, так что мыслей и не было.
И с бессмысленным кипятком в голове Николай Аполлонович бежал, припадая на правую ногу с болезненно ноющим подколенным суставом.
МАМА
Первое, что увидел он, было... было... По что тут сказать: лицо матери; оно – постарело, а руки – дрожали (в кружеве золотых фонарей, только что зажженных – за окнами).
– «Коленька: мой родной, мой любимый!»
Не выдержал: устремился весь к ней:
– «Ты ли, мальчик...»
Не выдержал: опустившись перед ней на колени, ее охватил он руками; прижался к коленям; и – судорожными разразился рыданьями – неизвестно о чем: заходили широкие плечи (он не испытывал ласки за эти последние годы).
– «Ты – мама...»
И плакал.
Аполлон Аполлонович там стоял, в полусумерках ниши; потрогивал пальцем он куколку из фарфора – китайца: китаец качал головой; Аполлон Аполлонович вышел там, из полусумерек ниши; тихонько покрякивал; мелкими продвигался шажками; и – неожиданно загудел:
– «Успокойтесь, друзья мои!»
Он, признаться, не мог ожидать этих чувств от холодного, скрытного сына, когда на лице его эти два года он видел одни лишь ужимочки; рот, разорванный до ушей, и – опущенный взор; озабоченный побежал Аполлон Аполлонович вон – за каким-то предметом.
– «Ты – мама...»
– «Любимый, мой мальчик».
Прикосновение пальцев к руке привело его в чувство: – «Вот, Коленька: отпей-ка глоточек воды».
И когда он с колен приподнял свой заплаканный лик, он увидел: ребенкины взоры шестидесятивосьмилетнего старика: Аполлон Аполлонович тут стоял, в пиджачке, со стаканом воды; его пальцы плясали; и Николая Аполлоновича он скорее пытался трепать, чем трепал, – по спине, по плечу, по щекам; вдруг: погладил рукой белольняные волосы. Анна Петровна – смеялась; некстати рукой оправляла свой ворот.
И Николай Аполлонович приподнялся с колен:
– «Извините, мамаша: я так себе...»
– «Я – сейчас...»
Отпил он воды.
На перламутровый столик тут Аполлон Аполлонович поставил стакан; вдруг – старчески рассмеялся, как смеются мальчишки проказам веселого дяди:
– «Так-с...»
– «Так-с...»
Николай Аполлонович там стоял у трюмо, которое увенчивал крылышком золотощекий амурчик: а под амурчиком лавры и розаны прободали тяжелые пламена факелов; но прорезала память: сардинница!..
Порыв переломился в нем:
– «Я сейчас... Я приду...»
– «Что с тобою, мой милый?»
– «Оставьте же его, Анна Петровна... Советую тебе, Коленька, побыть с собою самим... пять минут... Да, знаешь ли... И потом – приходи...»
И, чуть-чуть симулируя только что бывший порыв, Николай Аполлонович пошатнулся и театрально как-то лицо уронил в свои пальцы: и шапка волос – промертвела так странно там.
Он, шатаяся, вышел.
– «Да, да... Собственно говоря, я его не узнал... Эти... Эти, так сказать, чувства», – и Аполлон Аполлонович перебежал: от зеркала к подоконнику... – «Эти, эти... порывы», – и – потрепал себе бачки.
– «Показывают», – повернулся он круто, приподнял носки, балансируя на каблучках, припадая всем телом на павшие быстро носки, –
– «показывают», – заложил руки за спину (под пиджачок) и вращал за спиною рукой (отчего пиджачок завилял); и казалося – Аполлон Аполлонович бегает по гостиной; с виляющим хвостиком:
– «Показывают – естественность чувства и, так сказать», – пожал он плечами, – «хорошие свойства натуры...»
– «Не ожидал-с я никак...»
Лежащая на столике табакерка стремительно поразила внимание именитого мужа; желая придать положению ее на столе более симметрический вид относительно стоящего здесь подносика, Аполлон Аполлонович подошел к тому столику и схватил... с подносика – визитную карточку, которую он завертел между пальцев; в сей миг посетила глубокая дума, развертываясь в убегающий лабиринт посторонних открытий. Но Анна Петровна, сидевшая в кресле, заметила:
– «Я всегда говорила...»
– «Да-с, знаешь ли...»
Аполлон Аполлонович встал, побежал: от столика к зеркалу:
– «Те-ли...»
От зеркала – в угол:
– «Вот Коленька удивил: и признаться – его поведение успокоило», – сморщил лоб, – «относительно... относильно», – вынул руки из-за спины; рукою пробарабанил по столику:
– «Мда!..»
Перебил:
– «Ничего-с».
И задумался.
И ГРЕМЕЛА РУЛАДА
Николай Аполлонович вошел в свою комнату; уставился на арабскую табуретку: прослеживал инкрустацию кости и перламутра; он медленно подошел к открывающему просторы окну: там бежала река; и качалась ладья; и плескалась струя; из гостиной, откуда-то издали, беги рулад огласили молчание; так – играли и прежде: под эти-то звуки, бывало, он засыпал.
Николай Аполлонович стал над грудой предметов, соображая мучительно:
– «Где же это такое... Как это такое... Куда – в самом деле?»
Не мог он припомнить.
И – тени, и – топи: и – зеленели там кресла из теней; и выдавался из теней там бюст: разумеется, Канта.
Тут только заметил он лист, свернутый вчетверо; посетители, не заставши хозяина, на столе оставляют листы; машинально взял в руку бумажку; увидел он почерк – знакомый, лихутинский. Да – ведь вот: он совсем позабыл, что в его отсутствие побывал здесь Лихутин: копал и шарил.
Обшаривал комнату.
Вздох облегчения – вырвался. Все – объяснилось: Лихутин! Конечно, конечно: здесь шарил; искал и – нашел; и нашедши – унес; он увидел незапертый стол; и он в стол заглянул; и сардинница поразила: и весом я видом, и часовым механизмом; сардинницу и унес подпоручик. Сомнения не было.
С облегчением опустился он в кресло: молчание огласили летучие беги рулад; так бывало и прежде: оттуда бежали рулады: тому назад – девять лет; и тому назад – десять лет: игрывала Шопена (не Шумана) Анна Петровна. Ему показалось теперь, что событий и не было: все объяснилось так просто: сардинницу – унес подпоручик Лихутин (кто же более, если не допустить, но... – зачем допускать!); Александр Иванович постарается о всем прочем (в эти часы, мы напомним, как раз объяснялся на дачке Александр Иванович Дудкин с покойным Липпанченко); да, событий – и не было.
Петербург там за окнами преследовал мозговою игрой и плаксивым простором; бросалися натиски мокрого холодного ветра; туманились гнезда огромные бриллиантов – под мостом. И – никого, ничего.
И бежала река; и плескалась струя; и качалась ладья; и гремела рулада.
АРБУЗ – ОВОЩЬ...
После двух с половиною лет состоялся обед.
Куковала кукушка; лакей внес дымящую супницу; Анна Петровна сняла довольством; а Аполлон Аполлонович... – кстати: сегодня еще, еще утром, вы, вглядываясь в дряхлого старика, не узнали бы этого бездетного мужа, – окрепшего, с выправкой, взявшего пружинным движеньем салфетку; сидели за супом; тут – боковая дверь – скрипнула: Николай Аполлонович, чуть подпудренный, выбритый, чистый, проковылял, присоединяясь к семейству, в студенческом сюртуке, в воротнике высочайших размеров (напоминающем воротники александровской, старой эпохи).
– «Mon cher», – вскинула к носу пенсне с аффектацией Анна Петровна, – «ты, вижу, хромаешь?»
– «А?»... – Аполлон Аполлонович бросил на Коленьку взгляд и – ухватился за перечницу. – «В самом деле...», и – стал переперчивать суп.
– «Ах, maman; я – споткнулся... И – ноет колено...»
– «Не надо ли свинцовой примочки?»
– «А, Коленька», – Аполлон Аполлонович, поднеся ложку супа ко рту, поглядел исподлобья, – «с ушибами в подколенном суставе не шутят; ушибы разыгрываются...»
И проглотил ложку супа.
– «Материнское чувство», – и Анна Петровна теперь уже выкатила детские свои, большие глаза, прижав голову к шее, – «а удивительно: он же взрослый, а еще беспокоюсь о нем...»
И – естественно позабылось, что два с половиною года она беспокоилась не о Коленьке; Коленьку заслонил человек, длинноусый, с глазами как два чернослива: чужому мужчине она ежедневно повязывала там, в Испании, фиолетовый, шелковый галстух: давала слабительное –
– «Материнское чувство, ты помнишь, – во время дизентерии...»
– «Вот именно...»
– «Последствиями дизентерии», – пророкотал из тарелочки Аполлон Аполлонович, – «ты, как кажется, страдаешь теперь?»
– «Им-с, спешу доложить... ягоды... и по сию пору – вредны-с», – раздался тут голос Семеныча; он подглядывал из-за двери – не прислуживал он.
– «Ягоды!» – пробасил Аполлон Аполлонович и неожиданно корпусом повернулся к Семенычу:
– «Ягоды!» – зажевал он губами.
Служивший лакей (не Семеныч) заранее улыбнулся с таким точно видом, будто он хотел всем поведать:
– «Теперь-то – такое!»
– . «Семеныч, скажите: арбуз то есть ягода?»
– «Арбуз, ваше высокопревосходительство, не ягода – овощь».
Но Аполлон Аполлонович перевернулся всем корпусом, выпалив – ай, ай, ай! – свой экспромт:
Верно вы, Семеныч,
Старая ватрушка, –
Рассудили это
Лысою макушкой.
После обеда обычно похаживал он вдоль едва освещенного зала: тот светился чуть-чуть; и луною, и кружевом фонаря; и сегодня похаживал по квадратикам пола: так, все – Аполлон Аполлонович; с ним Николай Аполлонович; переступали: из тени – в кружево фонарного света; переступали: из светлого этого кружева – в тень. С необычной доверчивой мягкостью, наклонив низко голову, Аполлон Аполлонович говорил: не то – сыну, а не то – сам себе:
– «Знаете ли – знаешь ли: трудное положение – быть государственным человеком».
Повертывались.
– «Я им всем говорил: нет, способствовать ввозу американских сноповязалок, – не такая пустячная вещь; в этом больше гуманности, чем в пространных речах... Государственное право нас учит...»
Шли обратно по гулким квадратикам паркетного пола; переступали: из тени – в лунный блеск косяков.
– «Все-таки, гуманитарные начала нам нужны; и гуманизм есть великое дело, выстраданное такими умами, как Бруно*199, как...»
Долго еще здесь бродили они.
Аполлон Аполлонович говорил очень-очень надтреснутым голосом; сына он брал иногда двумя пальцами – за сюртучную пуговицу: прямо к уху тянулся губами.
– «Они, Коленька, – болтуны: гуманность, гуманность!.. В сноповязалках гуманности больше: сноповязалки – нужны!..»
Свободной рукой охватил очень тонкую талию сына, его увлекая к окну, – в уголок; бормотал и качал головой; с ним они не считались, не нужен он:
– «Знаешь ли – обошли!»
Николай Аполлонович не посмел себе верить; да, как все случилось естественно – без объяснения, без бури, без исповедей: этот шепот в углу, эта – ласка.
Почему ж эти годы он... –
«Так-то, Коленька, мой дружок: будем с тобой откровеннее...»
– «Что такое? Не слышу...»
Мимо окон пронзительно пролетел сумасшедший свисток пароходика; пламенный, кормовой фонарек, както наискось, уносился в туман; и – ширились рубинные кольца. Так с доверчивой мягкостью, наклонив низко голову, Аполлон Аполлонович говорил: не то – сыну, не то – сам себе. Переступали: из тени – в кружево фонарного света; переступали: из светлого этого кружева – в тень.
Аполлон Аполлонович – маленький, лысый и старый, – едва освещаемый вспышками догорающих угольев, на перламутровом столике стал раскладывать пасианс; два с половиною года не раскладывал он пасиансов; так Анне Петровне запечатлелся он в памяти; было же это, тому назад – два с половиною года: перед роковым разговором; и лысенькая фигурка сидела за этим же столиком и за этим же пасиансом.
– «Десятка...»
– «Нет, голубчик, заложена... А весною – вот что: не поехать ли нам, Анна Петровна, в Пролетное» (Пролетное было имение Аблеуховых: Аполлон Аполлонович не был в Пролетном лет двадцать).
За льдами, снегами, лесною гребенчатой линией он по глупой случайности едва не замерз, тому назад, – пятьдесят лет; в этот час замерзания чьи-то холодные пальцы погладили сердце; рука ледяная манила; а позади него – в неизмеримости: убегали века; впереди – ледяная рука открывала: неизмеримости; неизмеримости – полетели навстречу. Рука ледяная!
И – вот: она – таяла.
Аполлон Аполлонович, освобождаясь от службы, впервые ведь вспомнил: уездные, сиротливые дали, дымок деревенек; и – галку; ему захотелось увидеть: дымок деревенек; и – галку.
– «Поедем в Пролетное: там так много цветов».
Анна Петровна же, увлекаясь опять, говорила о ярких красотах альгамбрских дворцов*200; но в порыве восторга она позабыла признаться, что все-таки она сбивается с тона, что говорит вместо «я» она – «мы»; «мы», то есть: «я» с Миндалини (иль Манталини, – так кажется).
– «Мы приехали утром в прелестной колясочке, запряженной ослами; в упряже у нас, Колечка, были вот такие большие помпоны; и, знаете, Аполлон Аполлонович, мы привыкли...»
Аполлон Аполлонович слушал и перекладывал карты; и бросил: так пасиансика – не докончил оп; сгорбился, засутулился, освещаемый ярким пурпуром угольев; несколько раз он хватался за ручку ампирного кресла, все собираясь вскочить; вовремя соображал, что – совершает бестактность; и обрывая словесный поток, падал в кресло: позевывал.
Наконец, он ласково заметил:
– «Я, таки, признаться – устал...»
И пересел он из кресла – в качалку.
Николай Аполлонович вызвался свою мать довести до гостиницы; выходя из гостиной, он повернулся всем корпусом на отца; из качалки – увидел он (так ему показалось) – грустнеющий взор, на пего устремленный; да, Аполлон Аполлонович, сидя в качалке, качалку раскачивал: мановением головы и движеньем ноги; это было последним сознательным восприятием; собственно говоря: более отца он не видел; и на море, – на горах, в городах, – в ослепительных залах значительных европейских музеев – тот взгляд ему помнился; и казалося: Аполлон Аполлонович там прощался сознательно – мановением головы и движеньем ноги: старое лицо и тихие скрипы качалки; и – взгляд, взгляд!
ЧАСИКИ
Свою мать проводил до гостиницы; после – свернул он на Мойку; на окнах квартирки – был мрак: Лихутиных не было; делать нечего: повернул он домой.
Проковылял в свою спальню; во тьме постоял: тени, тени и – кружево фонарного света; он по привычке снял часики, на них посмотрел: три часа.
Все тут сызнова поднялось.
Понял он, – не осилены страхи; уверенность, выносившая вечер, теперь провалилась куда-то; и все – стало зыбким; хотел принять брому, но не было брому; хотел почитать «Откровение»; не было «
Мысль эта крепла.
Его не терзала она, иное терзало: то старое, бредное, уже позабытое за день; и за ночь возникшее:
– «Пепп Пеппович... Пепп...»
Разбухая в громаду, из, вероятно, четвертого измерения проницал Желтый Дом; он же – несся по комнатам; прилипал поверхностями к душе; и душа становилась поверхностью: огромного, быстро растущего пузыря, раздутого в сатурнову орбиту... ай-ай-ай: Николай Аполлонович холодел; в лоб веяли ветры; все – лопалось.
Николай Аполлонович протягивался к донимавшему звуку: искал место звука; поскрипывая сапогами, и – крался к столу, где докучное становилось отчетливей; а у стола – пропадало.
Тикали часики.
– «Тик-так», – выкидывалось негромко из теневого угла; и – крался обратно: от столика – в угол; все – тени и тени; и – гробовое молчание...
Николай Аполлонович запыхался, метаясь с протянутой свечкою среди пляски теней; все ловил он порхающий звук (так гоняются дети за желтеньким мотылечком).
Вот принял он верное направление; странный звук открывался; и тиканье раздавалось отчетливо: миг – он накроет его (мотылек не слетит).
Где, где, где?
И когда он упорнее стал искать точки распространения звука, он сразу нашел эту точку: нашел у себя в животе; в самом деле: огромная тяжесть тянула желудок.
Увидал: стоит у ночного он столика; а на уровне живота, на поверхности столика, тикают... им же снятые часики; рассеянно на них посмотрел: четыре часа.
Он вошел в свои рамки (да, да – подпоручик Лихутин проклятую бомбу унес); пропадало и бредное чувство; и пропадала ужасная тяжесть в желудке; он скидывал пару; он с наслаждением отстегнул и крахмалы: воротничок свой, сорочку; стащил он кальсоны: с ноги, где колено – распухло; и ноги ушли: в белоснежную простыню; но – задумался, склонившись на руку.
И свечка потухла.
Часы же все тикали; совершенная темнота окружала его; в темноте же тиканье запорхало опять, будто снявшийся с цветка мотылечек: вот – здесь; вот – и там; и – тикали мысли; в разнообразных местах воспаленного тела – все мысли забилися пульсами: в шее и в горле, в руках, в голове; в солнечном сплетении даже.
И отставая от тела, они были вне тела; они во все стороны от него образовали сознательный контур: на поларшина; и – более; понял он: мыслит не он; то есть мыслит не мозг, а вне мозга очерченный, бьющийся этот сознательный контур; в контуре – пульсы, проекции пульсов, – все, все превращалися в себя измышлявшие мысли; да, да: в глазном яблоке происходила бурная жизнь; обыкновенные точки тут вспыхнули искрами; выскочили из орбит в пространство; и – заплясали вокруг, образуя докучные канители, роящийся кокон – из светов: на поларшина; и – более; это – и было пульсацией: она – вспыхнула.
– «Ведь тикает, тикает...»
Пробежала другая...
Мыслилось утверждение того положения, которое мозг отрицал, и с которым боролся упорно: сардинница – здесь; да: сардинница – здесь; по ней бегает стрелочка; стрелочка бегать устала: и вот – добежит до рокового до пункта (тот пункт уж близок)... Световые, порхавшие пульсы бешено порассыпались, как рассыпаются искры костра, если ты по костру крепко грохнешь дубиной, – рассыпались тут: обнажилась под ними какая-то голубая безвещность; сверкающий центр проколол мгновенно покрытую испариной голову тут прилегшего человека, иглистыми своими и трепетавшими светами напоминая гигантского паука, прибежавшего из миров, и – отражаясь в мозгу: –
– и раздадутся непереносные грохоты, которые, может быть, ты не успеешь услышать, потому что, прежде чем ударятся в барабанную перепонку, будешь ты с разорванной перепонкой (и еще кое с чем) –
– голубая безвещность пропала; с ней – сверкающий центр под набегающей световой канителью; но безумным движением Николай Аполлонович из постели тут вылетел: пульсами обернулось мгновенно течение не им мыслимых мыслей; а пульсы забились: в виске, в горле, в шее, в руках... не вне органов....
Он протопал босыми ногами; попал же он – в угол.
Светало.
Накинул кальсоны, протопал в темнеющий коридор: почему, почему? Ах, он просто боялся... Его охватило животное чувство за жизнь; из коридора же не хотел он вернуться; и мужества заглянуть в свои комнаты – не имел; ведь отыскивать бомбу уж не было силы; и все – перепуталось; он не помнил минуты и часа; ведь роковым оказаться мог – каждый миг.
И, отойдя в уголок, он уселся на корточках.
Миги же истекали в нем медленно; и минуты казались часами; многие сотни часов протекли; коридор – просипел; коридор – просерел: наступал белый день.
Николай Аполлонович убеждался во вздорности себя мысливших мыслей; мозг справился; и когда он решил, что давно срок истек, то и версия об уносе сардинницы подпоручиком как-то уже разлилась вкруг парами блаженнейших образов; Николай Аполлонович, сидя на корточках в коридоре, – от безопасности ли, от усталости ли, – только, только: вздремнул он.
Очнулся он от скользкого прикосновения ко лбу; и, открывши глаза, он увидел – слюнявую морду бульдожки: бульдожка посапывал и повиливал хвостиком; равнодушно рукой отстранил он бульдожку, хотел было снопа приняться за старое: продолжать там такое; хотел докрутить там какие-то крутни, чтоб сделать открытие. И – вдруг понял: почему – на полу?
Почему – в коридоре?
Поплелся к себе: подходя же к постели – докручивал сонные крутни...
– Грохнуло: понял все.
В очень долгие зимние вечера Николай Аполлонович многократно потом возвращался к тяжелому грохоту: был особенный грохот, совсем не сравнимый ни с чем; оглушительный и – глухой: с металлическим, басовым, тяготящим оттенком; и все потом замерло.
Скоро послышались голоса, ног босых топоты, тихое подвыванье бульдожки; и – телефон затрещал: приоткрыл свою дверь; и рванулися струи холодного ветра; лимонно-желтые дымы наполнили комнату; в струе ветра некстати споткнулся он о какой-то расщеп: о кусок разорванной двери.
Вот – груда холодного кирпича, вот и бегают тени: из дыма; а пропаленные клочья ковров – как попали они? Вот одна из теней на него грубо гаркнула:
– «Эй, чего ты тут: в доме, видишь, несчастие!»
Слышалось:
– «Их бы всех, подлецов!»
– «Это – я», – попытался он.
Но его перебили тут:
– «Бомба...»
– «Ай!»
– «Самая... разорвалась...»
– «?»
– «У Аполлона Аполлоповича... в кабинете...»
– «?»
– «Слава богу!»
Напомним читателю: Аполлон Аполлонович рассеянно в кабинет к себе занес тихо сардинницу; да и забыл о сардиннице: разумеется, был он в неведении о содержанье сардинницы.
Николай Аполлонович подбежал к тому месту, где только что была дверь; двери не было: было провалище, откуда клубами шел дым; если бы заглянули на улицу, то увидели бы: собиралась толпа; городовой оттискивал ее с тротуара; а ротозеи смотрели, закинувши головы, как из черных оконных провалов да из дом перерезавшей трещины зловещие желтовато-лимонные клубы выбивались наружу.
Николай Аполлонович, сам не зная зачем, побежал от провала обратно; и попал, сам не зная куда... –
– на постели (так-таки на подушке!) сидел Аполлон Аполлонович, поджимая желтевшие голые ножки к груди; был в исподней сорочке; он, охвативши руками колени, ревел; в общем грохоте позабыли его; некому было его успокоить; одип-одинешеиек... до надсаду, до хрипу... –
– Николай Аполлонович бросился к бессильному тельцу: бросается мамка к трехлетией упавшей каплюшке, которую ей поручили, которую позабыла она; но бессильное тельце – каплюшка – при виде бегущего – как подскочит с подушки и – как руками замашет: с неописуемым ужасом и с недетскою резвостью.
И – как пустится в бегство из комнаты, проскочив в коридор!
Николай Аполлонович с криком «держите» – за ней: за фигуркой; оба неслись в глубину коридора (там что-то такое тушили); и было жутко мелькание странно оравших фигурок: и развевалася в беге сорочка; и топотали, мелькали их пятки; и Николай Аполлонович пустился вдогонку с прискоками, падая на правую ногу; за падающую кальсонину ухватился рукой; а другой – норовил схватиться за плещущий край той отцовской сорочки.
Бежал и кричал:
– «Погодите...»
– «Куда?»
– «Да постойте».
Добежавши до двери, ведущей в ни с чем не сравнимое место, с уму непостижною хитростью Аполлон Аполлонович уцепился за дверь; очутился в том месте: улепетнул в это место.
Николай Аполлонович на мгновение отпрянул от двери; и врезались: поворот головы, потный лоб, губы, бачки и глаза, как расплавленный камень; и – дверь захлопнулась; все пропало: улепетнул в это место.
Сюда Николай Аполлонович колотился отчаянно; и просил – до надсаду, до хрипу: –
– «Пустите...»
И – «Ааа... ааа... ааа...»
Он упал перед дверью.
И голову бросил он в руки; лишился тут чувств: топотом – набежали лакеи. Поволокли его в комнату.
И – ставим здесь точку.
Не станем описывать, как тушили пожар, как сенатор в сильнейшем сердечном припадке потом объяснялся с полицией: после этого объяснения был консилиум докторов: доктора нашли у него расширенье аорты. И все-таки: в течение всех забастовочных дней в канцеляриях, кабинетах и министерских квартирах являлся он – изможденный, худой; убедительно погрохатывал мощный басок – в канцеляриях, кабинетах и министерских квартирах – глухим, тяготящим оттенком. Скажем: что-то такое ему доказать удалось. Арестовали кого-то там; и потом – отпустили; в ход были здесь пущены связи; и – дело замяли, не тронули никого. Все те дни его сын лежал в приступах нервной горячки: не приходил он в сознание; когда же пришел он в себя, он увидел: он – с матерью; в лакированном доме – не было никого. Аполлон Аполлонович перебрался в деревню; безвыездно просидел эту зиму в снегах, взявши отпуск без срока, из отпуска выйдя в отставку; сыну же он приготовил: заграничный паспорт и деньги. Аблеухова, Анна Петровна, сопровождала Николеньку. Только летом вернулась она: Николай Аполлонович не возвращался в Россию до самой кончины родителя.
ЭПИЛОГ
Февральское солнце на склоне. Косматые кактусы разбежались туда и сюда. Скоро, скоро с залива к песчаному берегу прилетят паруса; летят они: острокрылатые, закачались; в кактусы ушел куполок.
Николай Аполлонович в голубой
Всюду белые кубы домишек; и погоняет там криками ослика раскричавшийся бербер; и куча из веток сребрится на ослике; бербер оливковый.
Николай Аполлонович не слушает звуков «там-там»-а, не видит он бербера; видит: пред ним Аполлон Аполлонович – лысенький, маленький, старенький, – сидя в качалке, качалку качает: мановением головы и движеньем ноги; то движение – помнится...
Издали розовеет миндаль; тот гребенчатый верх – ярко лилово-янтарный; тот верх – Захуан*203; а мыс – карфагенский*204. Николай Аполлонович у араба снял домик в береговой, подтунисской деревне.
Под тяжестью снега согнулися еловые ветки: косматые; впереди – деревянное пятиколонное здание; через перила террасы – сугробы переметнулись холмами; на них – нежно-розовый отблеск февральской зари.
Сутуловатая фигурочка – в валенках, в варежках, опираясь на палку, проходит, подняв меховой воротник; шапка двинута на уши; пробирается по расчищенной тропке; ведут ее под руки; у ведущей фигуры в руках теплый плед.
На Аполлоне Аполлоновиче в деревне огромные появились очки; запотевали они на морозе, и не было видно сквозь них ни лесной гребенчатой сереющей дали, дымка деревенек; ни – галки: лишь меж них – лунный блеск косяков да квадратики паркетного пола; Николай Аполлонович – нежный, внимательный, чуткий, – наклонив низко голову, переступает: из тени – в кружево фонарного света; переступает: из светлого этого кружева – в тень.
Вечером старичок у себя за столом посреди круглых рам; в круглых рамах портреты: того офицера в лосинах, старушка в наколке; тот офицер – да, отец его; а старушка в наколке – покойная матушка, урожденная Сваргина. Старичок же строчит мемуары, чтоб в год его смерти увидели свет.
И – увидели свет.
Остроумнейшие мемуары: их знает Россия.
Пламень солнца стремителен: багровеет в глазах: отвернешься, и – бешено ударяет в затылок; пустыня от этого кажется зеленоватой и мертвенной; впрочем – мертвенна жизнь; хорошо здесь навеки остаться!
В толстом пробковом шлеме с вуалью сидит Николай Аполлонович на куче песку; перед ним – громадная голова: валится тысячелетним песчаником; – Николай Аполлонович сидит – перед Сфинксом.*205
Он здесь два уж года; он – занимается в Булакском музее.*206 Да, да «
Ах, как хорошо, что он занят: порой отрываясь от схем, он – вникает; и кажется: не все умерло; есть какие-то звуки; грохочут в Каире; особенный грохот; напоминает он – тот же звук: оглушительный и глухой: с металлическим, басовым, тяготящим оттенком; и Николай Аполлонович – тянется к мумиям; к мумиям – привел «случай». А Кант? Кант забыт.
Завечерело: в беззорные сумерки груды Гизеха протянуты грозно*210; да, да: все. расширено в них; все от них – ширится; и во взвешенной пыли теперь загораются темно-карие светы; и – душно.
И он привалился задумчиво к мертвому, пирамидному боку; он сам – пирамида, вершина культуры, которая – рухнет.
В мягком кресле, на самом припеке, недвижно сидел старичок; васильковыми очень большими глазами посматривал на старушку; закутаны в плед были ноги (они отнялись); на колени ему положили душистые гроздья сирени; а старичок все тянулся к старушке, всем корпусом вылезая из кресла.
– «Говорите, окончил?.. Приедет?»
– «Приводит в порядок бумаги...»
Николай Аполлонович где-то в Египте довел до конца монографию:
– «Как она называется?»
Старичок просиял:
– «Монография называется... ме-емме... «О письме Дауфсехруты».*211 Аполлон Аполлонович забывал все решительно: название обыкновенных предметов; слово ж то – Дауфсехруты – твердо помнил; о «Дауфсехруты» – писал Коленька. Голову наверх закинешь, и золото зеленеющих листьев там: бурно бушует: и синева, и барашки; и бегает трясогузочка по дорожке пред ним.
– «Говоришь, в Назарете*212?»
Ну и гуща же колокольчиков! Колокольчики раскрывали лиловые зевы; в сплошных колокольчиках стояло тяжелое переносное кресло; морщинистый Аполлон Аполлонович с непробритой щетиною, серебрящейся на щеках, – под парусиновым зонтиком: сидел в кресле.
В 1913 году Николай Аполлонович продолжал еще днями расхаживать по полю, по лугам, по лесам*213, наблюдая с угрюмою ленью за полевыми работами; ходил в картузе; и носил он поддевку верблюжьего цвета; поскрипывал сапогами; золотая, лопатообразная борода изменяла его; а шапка волос выделялась серебряной прядью; та прядь появилась внезапно; глаза у него разболелись в Египте, и синие стал носить он очки. Голос его погрубел, а лицо покрылось загаром; быстрота движений пропала; он жил одиноко; никого-то не звал, ни у кого не бывал; видели его в церкви; в последнее время читал он философа Сковороду.*214
Родители его умерли.
1 Хокусая. (Прим. автора.)
2 Моя дорогая (франц.).
3 Сухотка спинного мозга (лат.).
4 По маленькой (франц.).
5 Существующего положевия (лат.).
6 Оно ... вертится (франц.).
7 Са ... турн (франц.).
8 Но я надеюсь, что да... (франц.)
9 Простате, мадам, но мосье скоро вернется? (франц.)
10 Простите, в некоторых случаях я предпочитаю говорить лично... (франц.)
11 Кредо – дословно: верую (лат.)
12 Пушкин. (Прим. автора.)
13 Петру Первому – Екатерина Вторая (лат.).
14 Чай, сахар и сливки (франц.).
15 Первый разряд – от трех франков и выше (франц.).
«Петербург» Андрея Белого.
Послесловие
1
Ни одно из произведений русских писателей-символистов - ни проза их, ни поэзия – не встретило столько препон и барьеров по дороге в печать, сколько их выпало на долю этого романа Андрея Белого, центрального в его творчестве. Мало того: кроме внешних препятствий, ни одно произведение самого Андрея Белого не создавалось так мучительно долго, не возбуждало столько сомнений у автора, не стоило ему таких душевных мучений.
Главным виновником всех этих бед, внешних и внутренних, был сам автор. Человек крайне неуравновешенный, нервный и неровный в самооценке, Андрей Белый, кажется, никогда не был до конца убежден в своей правоте, в своем праве на самовыражение. Он отвлекался от прямого дела художника то ради отвлеченного философствования в духе неокантианства, то ради антропософской мистики, то, наконец, ради жесточайшей полемики с теми, кто в данный момент казался ему зловредным врагом. А полемика сплошь и рядом была нецелесообразна. Писатель постоянно бедствовал, занимал деньги в счет будущего у друзей, у книгопродавцев и издателей. Он не умел и не считал нужным сводить концы с концами и все глубже и безысходной погрязал в безденежье. Это, в свою очередь, отражалось на ходе текущей работы, на творческом процессе.
Казалось бы, типичная судьба интеллигента-пролетария эпохи русской реакции. Да, таких неудачников в ту пору была тьма-тьмущая. Но Андрея Белого никак не назовешь «типичным неудачником» – совсем наоборот! Его литературная репутация сложилась и укрепилась задолго до «Петербурга». Он был известен и популярен и высоко почитаем как поэт, – особенно после книги «Пепел» (1909). Известен был и как теоретик символизма, как критик и литературовед. Влияние его раскинулось широко, особенно в Москве.
Несмотря на все эти внешние признаки успеха, сама судьба Андрея Белого являет собою образец катастрофического надлома.
В чем же дело?
Наверно, в том, что сам он создавал вокруг себя эту душную атмосферу. Друзья охотно шли ему навстречу, вели за него переговоры с издателями, как бы прокладывали для него подъездные пути для выхода на магистраль.
Андрей Белый чувствовал, что пишет вещь исключительную по своему значению, что она должна стать центральной для него и наиболее значительной. Может быть, именно это сознание и было причиной его колебаний.
Время шло и шло. Миновали 1911 и 1912 годы. Наступил 1913-й. Перипетии сложных отношений Белого с многими лицами, причастными к писанию романа, нашли отражение в переписке его с Александром Блоком. Здесь нет нужды воспроизводить в подробностях эти перипетии. Важно понять только одно.
Будущий роман уже и тогда рисовался многим как произведение новаторское, спорное. И он действительно был необычен, не гладок, ошарашивал, царапал своей шероховатостью. Ритмизованная проза Андрея Белого сначала отталкивала первых читателей рукописи, будь они журнальными редакторами, вроде редактора кадетской «Русской мысли» П. Б. Струве, будь даже друзьями и единомышленниками автора – правда, не самыми близкими, не такими, как Александр Блок.
Сама переписка А. Белого с А. Блоком воспринимается сейчас как своеобразный пролог к первой публикации завершенного романа.
В те годы многое для обоих было уже далеко позади. Давно миновала восторженная экзальтация их юношеской дружбы. Оба трезво и холодновато оценивали заново возникшую дружескую близость. Но тем серьезнее была эта зрелая близость. Тем к большему она обязывала хотя бы одного из партнеров – Александра Блока.
Александр Блок тверд в оценке романа, энергичен в действиях. Он безусловно верит в значительность того, что делает и уже сделал Андрей Белый. А этот последний продолжает метаться между «да» и «нет». Каждым следующим письмом опровергает свое предыдущее. И этим страшно затрудняет целеустремленную заботу друга.
Так вот и вышло, что благодаря Александру Блоку и его поддержке, духовной и материальной, «Петербург» наконец был напечатан в трех выпусках альманаха «Сирин» одновременно с драмой самого Блока «Роза и Крест», Для Блока был важен возврат к драматургии и театру. «Роза и Крест» как лирическая драма не напоминала «Балаганчик» и «Незнакомку». -
А. Блок высоко ценил работу Белого над языком и ритмом. В статье, посвященной книге Пимена Карпова «Пламень», Блок пишет, что некоторые из критиков говорят о подражании Карпова Белому, а другие утверждают, что язык Карпова «сильнее» Белого. Блок пишет: «Верно, что Карпов «подражает» А. Белому; чтобы убедиться в этом, стоит сличить любую страницу «Пламени» 0 любой страницей «Серебряного голубя». Что же тут неестественного? Именно у А. Белого найдет Карпов ответ на многие свои муки: найдет в той музыке, в том ладе, которыми проникнуты глубоко русские творения А. Белого». Блок продолжает дальше: «отверженец» Карпов со своим делом, которое всем не ко двору, ищет поддержки в музыке самого отверженного современного писателя, того писателя, чьих непривычных для слуха речей б России никто еще не слыхал как следует, но которые рано или поздно услышаны будут»1.
Это было написано в 1913 году, одновременно с выходом уже второго сборника «Сирин», где печатался «Петербург», – так что есть основание предполагать, что, говоря о «речах» Белого, которые «услышаны будут», Блок мог иметь в виду «Петербург», только что дошедший к читателям.
В том же 1913 году, отвечая на вопрос П. Е. Щеголева о «важнейших литературных произведениях этого года», Блок назвал «два романа» – «Петербург» Андрея Белого и «Туннель» Бернгарда Келлермана.
Блок прибавил: «А. Белый говорит о судьбах России, Келлерман – о судьбах Америки и Европы; А. Белого вдохновляет близкое прошлое, Келлермана – близкое будущее; у писателей этих, принадлежащих к различным расам, нет ни одной общей точки зрения, ни одного общего приема: даже недостатки их, поражающие – у А. Белого, совершенно различны. Тем не менее оба произведения, отмеченные печатью необычайной значительности, говорят о величии нашего времени»2.
По отношению к Андрею Белому Блок был прав и проницателен, утверждая его связь с величием того времени. Ближайшее будущее подтвердило это пророчество.
Несмотря на внешние (и оттого поверхностные) признаки субъективности Блока, он был одним из трезвых, строгих, внутренне свободных наблюдателей русской духовной жизни в годы, предшествовавшие первой мировой и великим событиям следом за той войной. Будучи кровно связан со всей текущей действительностью, Блок историчен – отсюда масштабность его мыслей. Ближайшее после 1913 года время показало это с полной наглядностью. Достаточно вспомнить «Двенадцать» и «Скифов».
Андрей Белый, поэт, прозаик, мыслитель, был той же высокой породы. В связи с этим следует внимательно присмотреться к эпохе создания «Петербурга».
Итак, тринадцатый год нашего века. В штабах мировых держав, ощетиненных штыками, лежали карты Европы, истыканные флажками всех цветов. Никчемные, неприцельные бипланы и цеппелины готовы были сбросить свой смертоносный груз динамита куда попало, хотя бы в болота и в речные волны. Это была тревога, не названная по имени, но одинаковая для миллионов людей разных языков и самых разных социальных корней.
Когда писатели искали для нее прямого выражения, у них возникали образы чуть ли не апокалипсического порядка. Разливанное море мистики туманило и зоркие глаза, искажало реальную, историческую перспективу. Это случалось и с писателями, далекими от символизма. Недаром, например, эсер Савинков (его литературный псевдоним Ропшин) назвал свой первый роман «Конь Блед». Речь у него шла о революции 1905 года. Но Апокалипсис пригодился и в реалистической ретроспекции на недавнее прошлое. Недаром Леонид Андреев углублялся в психопатологию азефовского предательства.
2
«Петербург» Андрея Белого для своего времени роман исторический. Казалось бы, семь-восемь лет – срок исторически короткий. Стоит мимолетно оглянуться назад – и вот, как живой, перед глазами девятьсот пятый год, кровавое Девятое января, царский расстрел рабочих на Неве, декабрьское восстание в Москве, Красная Пресня... Так нет же!
Роман Андрея Белого, возвращая читателя к концу русско-японской войны и к первой русской революции, заставляет читателя помнить о недавнем прошлом. Романист остается также историком. В этом сила авторской позиции.
В чем же сила этой позиции Андрея Белого?
Прежде всего в том, что Белый открыто и подчеркнуто связывал постижение исторического процесса и хода событий, которых был очевидцем, – с великим прошлым русской поэзии и русской исторической мысли. При этом поэтическая преемственность Белого сильнее, ярче, показательнее, чем преемственность рассудочно философского порядка.
Такая связь романа с прошлым, с девятнадцатым веком русской поэзии непроизвольно создает в романе континуум четырехмерной вселенной: время и пространство взаимосвязаны и тем самым смещены со своих Осей, даны в непрестанном движении.
Открыто проступает перекличка с Гоголем. Менее заметна перекличка с Достоевским. Но к этим перекличкам еще предстоит вернуться.
Глубже и по-своему демонстративна перекличка с Пушкиным, особенно с «Медным всадником». Она проходит контрапунктом в полифонической ткани романа, пронизывает его токами высокого напряжения, дает знать о себе в нескольких, особо важных эпизодах «Петербурга».
Александр Блок в 1910 году писал: «Медный всадник» – все мы находимся в вибрациях его меди...»3. Недаром он употребил термин музыкальный.
И если обратиться к поэтам, по духу ближайшим к Белому, – к Блоку и Анненскому, – у них обнаружишь очень важные отклики. Начинаю с Иннокентия Анненского, как со старшего:
Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.
А что было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале, –
Завтра станет ребячьей забавой.
Уж на что был он грозен и смел,
Да скакун его бешеный выдал,
Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол...
А вот Александр Блок:
Он спит, пока закат румян.
И сонно розовеют латы.
И с тихим свистом сквозь туман
Глядится змей, копытом сжатый.
Сойдут глухие вечера,
Змей расклубится над домами,
В руке протянутой Петра
Запляшет факельное знамя,
...Он будет город свой беречь,
И, заалев перед денницей,
В руке простертой вспыхнет меч
Над затихающей столицей.
Так в поэзии символистов вибрирует медь, о которой в 1910 году скажет Александр Блок. Медь, из которой отлит всадник Фальконе! Так у двух русских поэтов возникает образ Медного всадника, – возникает в связи с революционной стихией.
Незачем сетовать, что образы Петра и Змеи неясны, что змея, как идол поклонения у Анненского, или змей, расклубившийся у Блока, многозначны, что так же многозначно «факельное знамя» в петровской руке. Все это свойственно поэтике символизма. В ней, как в тумане предрассветных сумерек, колеблется и зыблется пейзаж, и лица, и толкование пейзажа и лиц. Но в этом же и сила цитированных поэтов! В дни первой революции Александр Блок нашел совсем другой язык для выражения своей связи с революционными событиями. Блок был ясен в своей политической позиции, безоговорочно принимая исторический смысл событий.
Роман Андрея Белого, несмотря на бьющий через край авторский лиризм, все же проза, прежде всего проза, претендующая на реализм и психологическую глубину, У такой прозы свои законы, своя тщательность, своя вещность. Все это сказалось и в пейзажах Андрея Белого, и в последовательности повествования, и в самой романной структуре, на редкость надежной и добросовестной, наконец, в неизбежных, насущно необходимых романисту психологических характеристиках.
Медный всадник – у Белого «медный гигант» – то и дело возникает в романе, – и как неотъемлемая деталь городского пейзажа, и как призрак, сопровождающий героев, и как активно действующий персонаж.
Надо сказать прямо: на этот раз
Разумеется, Андрея Белого можно заподозрить в эсхатологическом характере его предсказаний. Что ж, он был сыном своего времени, к тому же и неуравновешенным, менее стойким в своей: основе, чем Александр Блок. Но ведь и сам Блок, предсказывая «неслыханные перемены, невиданные мятежи», отнюдь не чурался преувеличений.
Тот же Медный Петр на других страницах романа входит в сопровождении Летучего Голландца в питерские кабачки двадцатого века – огромный, в бликах медной прозелени, в тусклом освещении газовых или еще слабых электрических фонарей, в ненастные осенние ночи, в фантастическом окружении. Входит как носитель гибельного, сокрушающего начала. «Я – гублю: без возврата» – вот настойчивый лейтмотив Петра в романе Белого.
Накануне сумасшествия одного из главных героев, эсера-подполыцика Александра Ивановича Дудкина, в его каморку входит этот необыкновенный гость: «...склонивши венчанную, позеленевшую голову и простирая тяжелую позеленевшую руку, стояло громадное тело, горящее фосфором. Встал Медный Петр...»
Далее Андрей Белый уже открыто и многозначительно перекликается с Пушкиным, с его гениальной поэмой: «Александр Иваныч, Евгений, впервые тут понял: столетие пробежал понапрасну: от декабря к октябрю: а за ним громыхало без всякого гнева – по деревням, городам, по подъездам, по лестницам... Металлический Гость, раскалившийся под луною... металлами – пролился в его жилы...»
Все как будто соответствует судьбе пушкинского бесфамильного Евгения. Концы сходятся с концами.
Как уже сказано, перекличка Андрея Белого с поэтикой и мыслью нашего девятнадцатого века не ограничена одним Пушкиным. Сама тема Петербурга, как сумрачного и страшноватого города, неизбежно приводит к Гоголю, прежде всего как автору петербургских повестей. Воздействие Гоголя на Белого заметно в сильно разветвленных синтаксических периодах, в напряженной риторике, в интонации, идущей открыто от первого лица – одинаково в патетике и в иронии. Идет ли речь о всей бюрократической системе Российской империи или о циркуляции разношерстной толпы обывателей по Невскому проспекту, – этот авторский аккомпанемент то и дело напоминает гоголевскую традицию. Он может быть окрашен и пародийно, и тогда представляется, что Андрей Белый сознательно и нарочито выставляет напоказ свою подчиненность Гоголю. Белый преувеличивает гоголевскую манеру, стилизует себя под Гоголя, чтобы уже в пародии дать обобщенный и стремящийся к еще большему обобщению образ Пошлости.
Куда сложнее обстоит дело у Белого в его зависимости от Достоевского. И сложнее, и разностороннее, а то и двусмысленнее4.
Достоевский в ту пору воздействовал не на одного Андреи Белого. Стоит вспомнить хотя бы Леонида Андреева и Савинкова-Ропшина, а то и Мережковского, Льва Шестова, Акима Волынского и других, поменьше.
Для иных из писателей Достоевский был своего рода «заколдованным местом» – топкой трясиной со светящимися гнилушками, но в то же время – «пророком». Все это прельщало многих испуганных 1905 годом интеллигентов – ренегатов марксизма, да и других, поправее. Книга Мережковского «Грядущий хам» – была как бы красным светофором для таких обывателей и любителей «страшного». Наступившая вслед за 1905 годом реакция с ее карательными экспедициями и виселичными столбами была ими перетолкована в мистическом духе, напоминающем бредовую фантастику «Бесов», зыбкую двуличную пропаганду Верховенского-младшего. Волна самоубийств, прокатившаяся по двум столицам и губернским центрам России, взывала к памяти инженера Кириллова, другого персонажа «Бесов». Пахло паленым, адской серой, шигалевщиной, содомом, который, как известно, Достоевский противопоставлял Мадонне.
Однако бывший петрашевец-фурьерист, бывший каторжанин, Достоевский жил внутри своего времени и оттого был шире и дальновиднее, чем иные его последыши десятых годов нашего века, которые хватались за Достоевского, как тонущие хватаются за доску от чужого корабля, и безнадежно тонули в грозной диалектике «Бесов». Вот отчего задолго до Великого Октября был безнадежно детерминирован их общий удел, так непоправимо обрекший их на эмиграцию после Октября.
Андрей Белый, так же как его друг Александр Блок, не был подвержен реакционному психозу. Он был писателем и мыслителем философского склада, то есть стихийным (по крайней мере, стихийным) диалектиком. Но был также и сильным художником, который смело, на свой страх и риск проникает в суть жизненных конфликтов, ситуаций и характеров. Белому не чужда психология, не чужд и юмор, далекий от благодушия.
Стоит приглядеться к зловещей фигуре Азефа, к тому, как она была истолкована и перетолкована в тогдашней послереволюционной литературе. Образ профессионального провокатора и предателя вырастал чуть ли не до демонских пределов. Им пугали читателей, как на ночь пугают детей – букой.
Надо отдать должное Андрею Белому, которому великолепно удалось обратное. Его провокатор Липпанченко лишен всяческой двусмысленности. Это жалкий обыватель, толстяк и трус. Таким, как эта фигура, могла быть и карикатура эпохи 1905 года, в сатирических журналах вроде «Жупела» пли «Зрителя». В романе Андрея Белого читатель расстается с провокатором, когда тот лежит с распоротым животом. И в этом нет никакой чертовщины. Все плоско и обыденно, как полуграмотная вывеска портного или парикмахера.
Андрей Белый сводит свой детектив к будничной и скучной развязке. Гоголевский черт спрятался где-то в другом квартале царской столицы на Неве.
Не столько влияние, сколько веянье Достоевского сказывается в умении Белого строить сюжет, остро психологический и отчасти детективный, в особом уменье вести читателя за собою к неожиданным и ошеломляющим развязкам, когда внезапно обнаруживаются неизвестные доселе взаимосвязи действующих лиц, а в спокойное романное повествование врывается драматургия с ее законами.
Это черты, присущие поэтике Достоевского. Они были открыты и названы своим именем в известных работах Михаила Бахтина. У Андрея Белого они проступают очень экстенсивно в эпизодах карнавального типа.
Хорошо знакомые символистам, к тому же и воспринятые не кем иным, как Мейерхольдом на сцене театра и в его журнале «Любовь к трем апельсинам», маски Арлекина, Коломбины и особенно маска Пьеро, как носителя лирического, субъективного начала, эти маски итальянской Comedia del Arte ожили в сцене бала в судорожном, нервном ритме, в блеске электросвеч нарядных петербургских зал. Они впутаны в сложнейшую интригу взаимоотношений Николая Аблеухова и его партнерши, питерской дамочки, жены офицера. Красное домино, черные капуцины, маски, паяцы вырвались из бально-маскарадной залы, пронеслись в полубреду по коридорам, комнатам. Поистине «и черти и любовь, и страхи и цветы», как у Грибоедова, но все это постарело на сто лет, хотя их можно узнать по извечным чертам романтической иронии, по всей этой фантасмагории, хорошо знакомой читателям той эпохи! Они узнавали лицо великого Города на Неве, с миазмами его зеленых, подернутых тиной каналов, со змеиной рябью Фонтанки, с болезненным обаянием, которое напоминало полотна художников «Мира искусства», Бенуа, Добужинского, Судейкина, живописцев, графиков, театральных декораторов, со всем, чем так обогатили эти чеканщики и гранильщики начала века русскую культуру.
Этим образам романа предшествовали и стихи самого Андрея Белого – в его лучшей поэтической книге «Пепел». Та же пб fro зловещая, не то шутовская атмосфера, то же домино загадочного гостя:
Гость: – немое, роковое,
Огневое домино –
Неживою головою
Над хозяйкой склонено...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Только там по гулким залам –
Там, где пусто и темно –
С окровавленным кинжалом
Пробежало домино.
Призрачный гость появляется и в других стихах, стоящих рядом с процитированными. Оп может оказаться и мертвецом, который преследует возлюбленную, венчающуюся с другим; может и в гробу лежать, этот мертвый Арлекин:
Седой, полуслепой старик, –
Язвительным, немым вопросом
Морщинистый воскинул лик
С наклеенным картонным носом.
Эти стихи были своего рода знамением времени (они помечены 1906 годом), смутного, послереволюционного. Здесь они привлечены, чтобы показать органичность у автора «Петербурга» карнавально-маскарадной темы.
Андрей Белый и типичен в этом общем движении, и в то же время исключителен по коренным свойствам своего сложного дарования. И если он так прочно и так демонстративно связал свое центральное произведение с великим прошлым русской поэзии, то в то же время он и порывал с прошлым, прорубал окна в новое мироздание, рожденное его богатым душевным опытом и твердо обоснованное всей осведомленностью писателя и мыслителя.
Уже было сказано о континууме четырехмерной вселенной, который впервые в русской поэзии был открыт и наглядно продемонстрирован в этом романе. Еще сильнее и смелее оп обнаруживается в развитии сложных характеров действующих лиц, населяющих четырехмерное поле, обозримое в романе.
3
Первый план этого поля целиком заполняют два основных персонажа. Заполняют одинаково и действием своим и бездействием, и характерами и бесхарактерностью. Это отец и сын Аблеуховы, Аполлон Аполлонович и Николай Аполлонович, крупный царский чиновник – и недоучившийся студент-философ. Автор напряженно и пристально всматривается в обоих. Выходит, что он столько знает о них, как будто сам побывал в их шкуре, как будто рос где-то рядом. Как же это случилось?
Аблеухов-отец не только карикатура на высшую бюрократию царской России той новейшей формации, которая выдвинулась в первые годы двадцатого века. Не только он разительно смахивает на знаменитого Победоносцева, на зловещего и тщедушного прокурора Святейшего синода, о котором Блок сказал:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла...
Дело обстоит сложнее, чем портрет этой ночной птицы.
Ибо немощный, забывчивый, косноязычный старик, как ни странно, во многом напоминает отца Андрея Белого, известного математика, Николая Васильевича Бугаева, именно такого, каким рисовал его сын в первой части своих мемуаров «На рубеже двух столетий». Рисовал с нежной любовью, с юмором, со снисходительностью младшего к старшему, по и с глубоким уважением.
От родного отца к выдуманному отцу Аблеухова перешли странная чудаковатость, рассеянность, речевые запинания, бытовая беспомощность в простейших житейских обстоятельствах.
Все это сплетено в полном жизненном правдоподобии, в резко схваченных реалиях вельможного быта. Андрей Белый не жалеет изобразительных средств, чтобы яснее и отчетливее показать сложность этого образа. Он наблюдателен и как живописец-портретист и как журналистский репортер, точен в передаче говора, как своего рода имитатор.
Обычнее, хотя и достаточно сложно, то обстоятельство, что Андрей Белый придал собственные черты младшему Аблеухову, сыну царского чиновника, студенту Николаю Аполлоновичу.
Сын – главное, центральное действующее лицо романа. На нем держится вся игровая, сложная линия сюжета. Вокруг Николая Аблеухова разворачиваются все основные события. Они даются в его восприятии.
Николай Аблеухов унаследовал от отца и житейскую беспомощность, и органическую неспособность быть простым и действовать просто в простейших условиях. Все в нем шатко и зыбко.
Такое впечатление, что он проходит по жизни, словно по непрочному мостику с шаткими перекладинами и ежеминутно рискует свалиться в кипящий и брызжущий пеной речной поток. Порой за ним следишь, как за лунатиком-сомнамбулой. Вспоминается Шекспир:
Из вещества такого же, как сон,
Мы созданы...
Николай Аполлонович Аблеухов – философ-кантианец новейшего в ту эпоху типа. У «неокантианцев» начала века кантовские абстракции заново абстрагированы. Живая диалектика Канта сведена к схоластике, лишена костяка и плоти, выпотрошена настолько, что сам Кант превращен в чучело Канта.
Вот Николай Аблеухов и мечется по жизни по воле автора в полном смятении. Каждое жизненно важное решение затрудняет его, как сложная задача со многими неизвестными. Сама жизнь дается ему нелегко. Для него она непосильное бремя, навязанное извне, своего рода скучнейшая служба. Дело доходит до того, что он непроизвольно втянут в эсеровское террористическое подполье. В роман вторгается сложный детектив, отчасти и пародийный в трактовке Андрея Белого. Из рук легкомысленной питерской дамочки, за которой Николай Аблеухов ухаживает, получает он записку о бомбе, которая «предназначается» его отцу, царскому чиновнику.
Таким образом, сын способствует покушению на своего отца.
В романе это показано с издевательской жестокостью, как бы освещенное сильнейшими прожекторами и люминесцентными лампами, и напоминает натурную съемку в кино. Бомба похожа на банку сардин. Она так и названа в романе: «сардинница ужасного содержания».
Ужасная сардинница случайно водворена самим сенатором в его кабинете. Тиканье ее слышит Николай Аполлонович. Он в ужасе и как будто парализован страхом.
Все-таки бомба сработала! Раздается взрыв. Разрушения в отцовском кабинете говорят о силе взрыва. К счастью, никого в кабинете не было.
Мыльный пузырь лопается. Все происшествие демонстрируется чуть ли не как фарс. Тень, набежавшая на отношения отца и сына, рассеивается – как раз благодаря рассеянности отца и сына. Надо всем господствует язвительная, близкая к пародии, ирония автора. Все в том же гипнотизирующем ритме, который цепко держит читателя в плену, показаны последние события романного сюжета. Ужас жизни проступает как столкновение деревянных марионеток. Это пародия на подлинный ужас жизни – не разберешь, добра или зла пародия, чему, собственно, служит авторская ирония, к каким глубинным романтическим первоисточникам тянутся ее разветвленные под землей корни. Может быть, действительно к немцам начала прошлого века, к Гофману и Тику, может быть, и к английскому «черному юмору», который впоследствии способствовал развитию дарования Чарли Чаплина. А может быть, проще и ближе. Андрей Белый задним числом откликнулся на «Балаганчик» Блока, на тот самый «Балаганчик», который за десять лет до «Петербурга» возбудил в Белом ярость правоверного символиста, обвинявшего Блока в измене общим святыням, в измене самой Прекрасной Даме. Тогда, в самом начале века, – аукнулось, в начале десятых годов – откликнулось... Но и в этом тоже сказался неустойчивый характер Андрея Белого.
Андрей Белый предстает в романе «Петербург» как самобытный рассказчик, проницательный наблюдатель современного ему общества, уверенный конструктор сюжета. В то же время Андрей Белый смелый новатор. Все эти черты еще в зародыше можно обнаружить и в первом романе Белого, в «Серебряном голубе», но в «Петербурге» они развернулись в полную силу, обозримы и невооруженным глазом. Они как бы демонстративны и бьют в цель прямой наводкой.
Сильнейшее средство воздействия Андрея Белого, конечно, напряженный и нервный ритм. Если говорить о нем точнее, в терминах русской просодии, – это наш анапест, трехдольник с ударением на последнем третьем слоге. Он может внезапно и оборваться паузником, нарушиться в цезуре, но в основном движении остается все тем же анапестом. Крутая волна ритма не отвлекает внимания, не затуманивает смысла – скорее наоборот, вовлекает внутрь событий. Что же тут удивительного! На то поэзия и существует, как сильнейшее среди искусств слова! Недаром ритм называют слепком с самого времени.
Андрей Белый сделал открытие, так организовав прозаическую речь. До него могли быть попытки, но они никому не удавались. Да и после него они были, но никогда не увенчивались успехом. Например, первый вариант «Цемента» был ритмизован Федором Гладковым по образцу «Петербурга». Однако Гладков был прав, когда в последующих изданиях романа совершенно отказался от ритма. Реалистический роман освободился от манерного (у Гладкова) украшения. Он стал жестче и прямее, да и самостоятельней.
В сущности, и сам Андрей Белый в дальнейшей своей работе, ни в трехтомных своих мемуарах, ни в «Котике Летаеве», не достигал такого совершенства во владении ритмом, как в «Петербурге». Ритм был так же напряжен, но как будто навязан извне.
В «Петербурге» же самый замысел, историческая его объемность требовали но только внутреннего лиризма, но и его внешнего выражения не в чем ином, как в ритме.
Но что греха таить! – «Петербург» Андрея Белого со всеми его художественными достоинствами, со всеми явными признаками гениальности Белого был лебединой песней русского символизма как литературного направления и как мировоззрения.
Роман Андрея Белого символисты вообще обошли молчанием. Но и в общественно-культурной среде, близкой к символистским кругам, роман встретил крайне настороженное отношение. Даже Валерий Брюсов не смог защитить произведение ближайшего своего соратника в редакции журнала «Русская мысль» от нападок главного редактора Петра Струве. Этот последний, ренегат марксизма, главный организатор знаменитого сборника «Смена вех», а в то время убежденный кадет, этот деятель реакции усмотрел в романс Белого, как и следовало ожидать, «антигосударственную тенденцию». Струве оказался достаточно прозорливым, чтобы угадать в романе столь далеко идущее, столь значительное начало, возникшее, может быть, и помимо воли автора. Действительно, едкому сарказму Андрея Белого, его суду и приговору подлежит весь механизм бюрократической системы, на которой держалась Российская империя. Эта система была окончательно расшатана в начале нашего века.
Рядом с этим вспоминается, как была встречена символистами поэма Александра Блока «Возмездие», ее первая и вторая главы. Правовернейший из теоретиков русского символизма, Вячеслав Иванов увидел в поэме Блока «разложение, распад, как результат богоотступничества, преступление и гибель»... Дальше, как говорится, некуда!
Вячеслав Иванов и Петр Струве мало сопоставимы друг с другом. Но в этом случае, то есть в конкретной литературной критике, они сходятся, ибо оба, каждый на свой лад, из своего угла, отстаивали заведомые фикции: Вячеслав Иванов г- христианскую догму, некогда легшую в основу зарождающегося русского символизма, а Петр Струве – государственность Русской империи, доживавшей в те годы последние дни.
Вот отчего можно сказать, что русский символизм в поэме Блока и в романе Белого спел свою лебединую песню. Взрывная волна, угаданная первыми читателями в обоих поэтических произведениях, несла на своем гребне новое, исторически обусловленное зрение, предчувствие новых, еще неведомых путей русского народа. История, творимая на глазах наиболее чутких современников, недаром диктовала двум русским поэтам. И поэма и роман завершали эпоху мощным всплеском жизненной и творческой энергии. Они не подводят итога эпохе. Песня остается только песней. Но на то и песня, чтобы остаться для следующих поколений живой и навсегда нужной. Надо полагать, чтобы остаться навсегда.
* * *
Должен сознаться, что тогда, «на заре туманной юности», «Петербург» Андрея Белого оказал решающее влияние на всю мою работу в поэзии, на мое увлечение русской историей, в частности эпохой Петра Великого, да и Пушкиным тоже5.
К только что сделанному личному признанию можно, по счастию, присоединить еще одно схожее с ним признание. Вот оно: «Но «Петербург»!.. Таким, как он написан у Белого, он запомнился мне навсегда, и первое чувство, которое я испытал, закрывая роман, – увидеть Петербург, понять этот вставший из мшистых болот загадочный планиметрический город. И тут же мелькнула – и спряталась и снова мелькнула – дерзкая мысль: увидеть человека, написавшего эту книгу, предсказавшего революцию, осмелившегося метнуться в неведомое будущее, далеко за ее пределы. Разглядевшего фантастическое в самом устройстве Российской империи. Империя расшаталась, рухнула, исчезла, но ее образный знак, ее ни на что не похожее постижение остались и были навсегда запечатлены в этой книге».
Так совсем недавно писал Вениамин Каверин в своих «Освещенных окнах», в этом его мемуарном повествовании. Вениамин Каверин на шесть лет моложе меня, но возрастная разница между нами в этом случае несущественна. В том, как был прочитан «Петербург» Андрея Белого двумя молодыми людьми десятых годов века, случайности никакой нет. Многие наши сверстники испытали такое же потрясение, читая замечательный роман. Само потрясение, в сущности, неповторимо. Оно обусловлено необычайными горизонтами, которые раскрылись перед тогдашней молодежью. Сама эпоха была так же молода, как мы!
Тут невольно задаешь себе вопрос: как воспримут роман Белого нынешние молодые читатели? О каком-нибудь предсказании не может быть речи. Да и надо ли предсказывать! Наверно, совсем по-другому, чем мы в начале века.
Но каким бы ни было новое восприятие, все равно надо надеяться, что замечательное произведение обогатит живое понимание прошлого, понимание одного из трагических перекрестков нашей истории. Сами книги растут вместе с новыми читателями. Но если читатели втягиваются в сущность таких книг, то, в свою очередь, они втягивают книги в орбиту своего времени, значит, и в новую для книг жизнь.
«Петербург» Андрея Белого достоин такого воскрешения.
1 А. Блок. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М.-Л., Гослитиздат, .1962, с. 485-486.
2 Там же, с. 677.
3 А. Блок. Записные книжки. 1901-1920. М., «Художественная литература», 1965, с. 169.
4 Об этом см. в статье Е. Стариковой «Реализм и символизм». – «Развитие реализма в русской литературе» в 3-х томах, т. 3. М., «Наука», 1974.
5 Здесь нужна хронологическая справка. Я прочел роман в 1916 году, то есть на три года позже, чем был он напечатан. В 1916 году в книжный магазин поступил он в виде сброшюрованных оттисков из альманахов.
КОММЕНТАРИИ
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РОМАНА
К работе над «Петербургом» Белый приступил осенью 1911 года, после окончания и опубликования романа «Серебряный голубь». «Петербург» замышлялся вначале как непосредственное продолжение «Серебряного голубя» и вторая часть единой трилогии, имевшей предположительное общее заглавие «Восток или Запад».
Однако вскоре выяснилось, что прямого продолжения не получается, а возникает новый роман, в котором центральное место занимает образ Петербурга, города, становящегося под пером Белого воплощением и обозначением двухвекового периода русской истории. Белый чутко улавливает, что период этот близок к завершению, но что придет на смену ему, он не знает. Тема Петербурга становится центральной темой этого нового романа. Здесь, в Петербурге, столице могущественной империи, раскинувшейся одновременно на территории и Европы и Азии, сталкиваются, но мысли Белого, две главные тенденции мирового исторического процесса – «западная» и «восточная». Петербург как бы оказывается пограничной точкой, в которой эти две тенденции пересекаются, взаимодействуют. В центре повествования – события первой русской революции, на фоне которых раскрывается фабула романа.
Весной 1911 года Белый возвратился из заграничного путешествия. Он посетил Италию, Сицилию, Северную Африку (Египет, Тунис), Турцию. Ранее он побывал в западных странах, теперь ему захотелось поближе познакомиться со странами Ближнего Востока. В общей концепции романа его нынешним впечатлениям суждено будет сыграть свою большую роль.
К январю 1912 года первые главы будущего «Петербурга» написаны. Это была первая редакция романа, получившая впоследствии наименование «журнальной», поскольку она предназначалась для опубликования в журнале «Русская мысль». С его редактором, П. Б. Струве, у Белого имелась предварительная договоренность. Роман пока еще носит заглавие «Лакированная карета», – в связи с тем «видением», которое посетило Белого в момент обдумывания фабулы (он внезапно увидел на фоне ночного Петербурга «квадрат черной кареты», в которой сенатор Аблеухов возвращался домой)1. Ознакомившись с рукописью, Струве категорически отказался печатать «Петербург» в своем журнале. В письме к В. Брюсову, который заведовал литературно-художественным отделом «Русской мысли», он прямо утверждал, что роман написан «претенциозно и небрежно» и что Белого вообще «следует отговорить... от печатания подобной вещи, в которой проблески крупного таланта утоплены в море настоящей белиберды, невообразимо плохо написанной». Как вскоре выяснилось, на деле причины были иные: Струве был напуган антигосударственной и антибуржуазной направленностью «Петербурга», о чем и сообщил Белому Брюсов2.
Для Белого наступили тяжелые дни. Несмотря на денежную помощь, оказанную Блоком, положение его в материальном отношении оказалось крайне затруднительным. Однако, сочувствие, которое вызвал роман в среде петербургских литераторов, ободряет Белого. Он получает предложения от других издателей и останавливает свой выбор на издательстве К. Ф. Некрасова, племянника великого поэта, незадолго до того организовавшего свое издательское дело. Некрасов понимал, что напечатать роман, отвергнутый «Русской мыслью» и уже нашумевший в Петербурге, было бы и важно и выгодно.
Передав Некрасову рукопись первых трех глав романа, Белый в марте 1912 года снова уезжает за границу, на этот раз – в Брюссель. Там, за границей, живя то в Бельгии, то во Франции, то в Германии, Белый усиленно работает над продолжением романа, параллельно переделывая и переписывая уже готовые главы. В течение 1912 года Белый передал Некрасову в общей сложности первые пять глав будущего произведения. Так была создана следующая, «некрасовская» (или «книжная», поскольку К. Ф. Некрасов предполагал выпустить роман отдельной книгой) редакция «Петербурга».
Белый работает теперь в иной психологической атмосфере. К его прежним философским увлечениям, которые сконцентрировались к этому времени главным образом в философской мистике Владимира Соловьева, добавилось еще одно – Рудольф Штейнер, знакомство с которым (весной 1912 г.) привело Белого к антропософии. Как и во многих других случаях, Белый не столько интересовался объективным характером взглядов Штейнера, сколько увидел в его «учении» отражение собственной тревоги и предчувствий3.
Безусловно, увлечение идеалистической антропософской системой, к тому же достаточно эклектического свойства, ые принадлежит к числу достижений Белого. Эпоха 1910-х годов давала ему более действенные этические стимулы, которые могли открыть перед ним реальную историческую перспективу. Главное, что дало Белому знакомство с Штейнером и его доктриной, – это идея личного нравственного совершенствования, выявления в себе «высшей» («божественной») сущности, идея необходимости полного внутреннего перерождения, которое мыслится теперь Белым в масштабах всего человечества, как акт единения всех го всеми и установления мирового братства людей. Прообразом этого будущего братства должна была стать антропософская община в Дорнахе, в которую вступает Белый после знакомства с Штейнером.
Мысль о внесословном братстве и единении всех со всеми представляла в условиях антагонистического общества иллюзию, отдаленно напоминавшую ту, которой питал себя в последние годы жизни Гоголь, хотя истоки здесь были различными. Осуществиться в обществе, раздираемом не нравственными, а социально-классовыми противоречиями она, естественно, не могла.
Вместе с тем категории и образы, почерпнутые из разговоров с Штейнером и его проповедей, но очень лично переосмысленные Белым, не во всех случаях оказали отрицательное влияние на художественную сторону романа. В некоторых сценах они по-своему стимулировали создание сгущенной атмосферы психологической и даже социальной напряженности, общего неблагополучия жизни. Прежде всего здесь следует назвать великолепно написанную главку «Второе пространство сенатора»; сон Аблеухова передан здесь в таких ярких образах и в плоскости таких глубоких и специфических сопоставлений, в каких на русском языке пи один сон ни одного из персонажей передан еще не был. «Астральный мир», категория безусловно идеалистическая, приобретает под пером Белого почти материальную ощутимость и незаурядную художественную выразительность. Отвлеченная мистическая категория, призванная обозначить моменты «касания» человеком «миров иных», она неожиданно становится обозначением грандиозности. реального мира, окружающего сенатора, и вместе с тем – безликости и полной незащищенности самого сенатора, эфемерности его внешне могущественного бытия. Подчиняясь силе художественного воображения писателя, антропософская идея теряет свой «потусторонний», но зато приобретает конкретный социальный смысл. Аналогичную функцию выполняют и главы, посвященные Николаю Аполлоновичу, – «Пепп Пеппович Пепп» и «Страшный суд», представляющие собой изложение бреда сенаторского сына (отделение «духа» от «тела»), задремавшего над бомбой с заведенным часовым механизмом. Здесь эфемерным оказывается не одно только индивидуальное бытие, а весь существующий «порядок» жизни, под который историей подложена бомба, и ничего с этим поделать уже нельзя4.
В сознании Белого, формировавшегося под воздействием преимущественно идеалистических философских систем, это ощущение имело провиденциальный характер. Но поскольку художественное воплощение оно получало в изображении фигур, действующих на реальном и исторически достоверном фоне (Петербург в октябрьские дни 1905 года), оно неизбежно приобретало общественный и социальный смысл.
В такой сложной и противоречивой духовной «атмосфере» протекает жизнь Белого в 1912-1913 годах. Увлечение штейнерианством соседствует с попытками разобраться в подлинном смысле перемен, назревающих в жизни европейских стран; глубокое внимание к Востоку, действительно пробудившемуся к исторической жизни – с наивно-мистическими размышлениями о приближающемся столкновении рас.
В это же время К. Ф. Некрасов, занятый своими издательскими планами и невзирая на затруднения, возникшие перед Белым, приступил к печатанию романа. В начале 1913 года были сверстаны две первые главы (около 5 печатных листов), которые так и сохранились в виде корректурных листов. Издатель готов был продолжать начатую работу, по тут произошло событие, повлиявшее на дальнейшую судьбу романа.
В то время; когда Некрасов приступил к набору рукописи, в Петербурге при ближайшем участии Блока организуется новое издательство «Сирин», которое и начинает функционировать с конца 1912 года. Фактическим главой «Сирина» стал М. И. Терещенко, капиталист и меценат, занимавший одно время должность чиновника особых поручений при директоре императорских театров. В 1912 году он вел переговоры с Блоком относительно либретто для балета А. К. Глазунова лз жизни провансальских трубадуров. Либретто впоследствии разрослось в драму «Роза и Крест». Блок же близко сошелся с М. И. Терещенко.
Блок хочет, чтобы «Петербург» был напечатан в этом новом издательстве. В ноябре 1912 года он сообщает Белому, что Терещенко поручил ему просить Белого прислать «новый роман для того, чтобы издать его отдельной книгой, или включить в альманах»5. Некоторое время Белый колеблется, он не хочет подводить Некрасова, но вскоре все же соглашается (Терещенко предлагает выгодные гонорарные условия). Руководители «Сирина» выкупают у Некрасова право на издание романа. К. Ф. Некрасов, естественно, не был доволен такой операцией (он даже грозил выпустить в свет уже отпечатанные листы), но, не имея рукописи целиком, согласился. Белый встречается за границей с Терещенко, еще раз перерабатывает первые главы; в середине февраля он уже высылает начало романа в Петербург Блоку, который передает рукопись Терещенко. Боясь, что первые главы не произведут впечатления, Белый ручается в письме Блоку, что последующие будут «удачнее первых трех, ибо они – лишь подготовка к действию»6. В чем состоит смысл этой «подготовки», Белый разъясняет в одном из последующих писем, раскрывая и характер внутренней «конструкции» «Петербурга»: «эти три главы непонятны (своими длиннотами), если не принять во внимание, что со следующей главы до конца события стремительны (план построения романа: 1) томление перед грозой и 2) гроза; томление – первые три главы; гроза – последние 4 главы с эпилогом)»7.
Первые три главы – завязка действия; здесь дается характеристика всем основным действующим лицам романа. Дудкин уже побывал в гостях у Николая Аполлоновича и оставил у него «узелок»; но что это за «узелок», каково его назначение и какое он имеет отношение к хозяину дома, сенаторский сын пока не знает. Впереди – бал у Цукатовых, поворотный момент в развитии действия. «Предгрозовое томление» сменяется первыми раскатами грома: Николай Аполлонович получает на балу записку, в которой ему предлагается убить отца; сенатор же вплотную сталкивается с человеком, облаченным в красное домино, о котором давно уже ходят тревожные слухи. Аполлон Аполлонович узнает, что человек этот – его сын, и понимает, что теперь карьера навсегда рухнула. Сходит с ума, оказавшись не в состоянии постичь сложность и запутанность происходящего, поручик Лихутин, с которым Николаю Аполлоновичу предстоит столкнуться в плачевных для него обстоятельствах. Но что самое главное – в действие прочно вступает охранное отделение, закрадывается предвестие провокации, жертвой которой должен стать Николай Аполлонович. Назначение четвертой главы – сжать до предела пружину действия. Очень точно Белый определил в этом письмо «внутреннее содержание» тех двух частей, на которые явственно распадается «Петербург» в соответствии с развитием действия и характером фабулы. Водоразделом же и началом бурного allegro служит четвертая глава.
23 февраля 1913 года Блок делает важную запись в дневнике, в которой рассказывает о визите с рукописью к Терещенкам и о своих впечатлениях от романа: «Я принес рукопись первых трех глав «Петербурга», пришедшую днем из Берлина, от А. Белого. Очень критиковали роман, читали отдельные места. Я считаю, что печатать необходимо все, что в соприкосновении с А. Белым (...) поразительные совпадения (места моей поэмы)8; отвращение к тому, что он видит ужасные гадости; злое произведение; приближение отчаянья (если и вправду мир таков...); (...) И, при всем этом, неизмерим А. Белый, за двумя словами – вдруг притаится иное, все становится иным»9.
Судя по приведенной записи, Блок впервые познакомился с «Петербургом» только сейчас. И он сразу же «принял» роман, несмотря на то, что это «злое произведение». Терещенко же с сестрами (которые также являлись пайщиками издательства «Сирин») отнеслись к роману настороженно («очень критиковали»). Не исключено, что причины, вызвавшие такое отношение, были в чем-то близки причинам, побудившим год назад Струве отвергнуть роман. Вряд ли Терещенко, будущему министру Временного правительства, могла прийтись по душе та антигосударственная и антибуржуазная направленность, которая как раз в первых главах романа проступает особенно отчетливо.
На следующий день Блок записывает в дневнике: «Радуюсь: сегодня Терещенки почти решили взять роман А. Белого». И затем через день: «Роман А. Белого окончательно взят, телеграфирую ему»10.
В середине марта 1913 года Белый приезжает в Россию. Не останавливаясь в Москве, он уезжает в Волынскую губернию и целиком погружается в работу над «Петербургом». Месяцы, проведенные в Волынской губернии (дер. Боголюбы), оказались в высшей степени плодотворными. В середине мая Белый проездом в Финляндию был в Петербурге, где трижды встречайся с Блоком. Вопрос о романе и печатании его в сборниках издательства «Сирин» окончательно улаживается. В августе 1913 года выходит в свет первый сборник, где были опубликованы пролог и две начальные главы; осенью выходит второй сборник, где напечатаны третья, четвертая, пятая главы; наконец, в марте 1914 года в третьем сборнике публикуются шестая, седьмая, восьмая главы и эпилог. Во всех трех сборниках роман «Петербург» занимает центральное место – как по количеству страниц, так и по значению (только в первом сборнике наряду с «Петербургом» впервые была опубликована драма Блока «Роза и Крест»). Однако .расходились сборники с трудом (сыграла свою роль разразившаяся война). Это дало возможность выпустить вскоре «Петербург» отдельным изданием в виде трех сброшюрованных оттисков, вырезанных из оставшихся нераспроданными сборников. Заново были отпечатаны только обложка и титульный лист. Такое странное издание «Петербурга», не имеющее единой пагинации (каждый оттиск начинался соответственно с первой страницы), появилось на книжных прилавках в мае 1916 года. Тираж издания составил 6000 экземпляров. Это и было первое отдельное издание «Петербурга».
Завершился следующий, «сириновскнй» период в истории романа. Его значение состоит в том, что он дал полный текст «Петербурга», который лег в основу последующих переработок. Здесь впервые определилось количество глав (восемь), введены пролог (его не было в «некрасовской» редакции) и эпилог. Главы получают окончательные названия – с оттенком некоторой авантюрности. В названиях глав Белый неожиданно использует традиции плутовского романа, что создает чуть заметный разрыв между названием главы и ее реальным содержанием. Так, трагическая пятая глава, крайне серьезная по содержанию и смыслу, имеет чисто авантюрное название: «Глава пятая, в которой повествуется, о господинчике с бородавкой у носа и о сардиннице ужасного содержания». «Господинчик с бородавкой у носа» – агент охранного отделения Морковин, он же – одно из «реальных», земных воплощений антихриста (у него «ледяные руки», которым повинуется сам сенатор Аблеухов). С другой стороны, «сардинница ужасного содержания» – террористическая бомба, с помощью которой Николай Аполлонович должен уничтожить своего отца;
В «сириновской» редакции впервые было проведено и деление глав романа на главки, каждая из которых также получила свое название. Составлялись они Белым из слов, словосочетаний или целых предложений данной главки. Громоздкие главы разбиваются на разделы, каждый из которых получает свое название. Чтение романа и восприятие его значительно облегчаются. Не все обозначения главок сложились сразу. Бывало и так, что, озаглавив ту или иную главку, Белый, продолжая работать над нею, выбрасывал (или передвигал в другое место) ту часть текста, которая как раз содержала слова, вынесенные в заглавие. Так произошло с главкой «Холодные пальцы» (глава первая). Словосочетание «холодные пальцы» взято из рассказа о том, как некогда в юности замерзал Аполлон Аполлонович 'где-то «в пространствах» России: «будто чьи-то холодные пальцы, бессердечно ему просунувшись в грудь, жестко погладили сердце». Рассказ этот Белый перенес впоследствии во вторую главу (главка «Зовет меня мой Дельвиг милый»); заглавие же «Холодные пальцы» по недосмотру осталось нетронутым, хотя связи с текстом оно теперь уже не имеет.
Однако, держа в руках отпечатанные сборники издательства «Сирин», в которых только что увидел свет его роман. Белый ощутил неудовлетворенность своей работой. К этому времени им ужо стало овладевать желание перекроить, переиначить, переделать все, прежде созданное, – не только прозу, но и поэзию. В июле' 1914 года он сообщает Иванову-Разумнику: «...я хотел подготовить 2-е издание моих стихотворений, распределив их по новым отделам и переработав ряд стихотворений заново; этой работой я и занялся. Но, занявшись переработкой, я понял, что мое намерение – не оставить камня на камне в «Золоте в лазури», т. е. попросту заново написать «Золото в лазури»11. Здесь важно отметить, что, только «занявшись переработкой», Белый начинает понимать, в чем состоит его истинное намерение.
Так же воинственно настраивается он в те годы и по отношению к «Петербургу». Правда, он нигде не говорит о переработке романа, а только о его сокращении. В новой редакции «Петербург» вышел в Берлине, в издательстве «Эпоха» в 1922 году.
Причины, вызывавшие столь радикальные намерения Белого по отношению к написанному ранее, не совсем ясны, хотя на это уже обратили внимание исследователи его творчества. Важно подчеркнуть, что желание пересмотреть свое прошлое возникло за несколько лет до революции и непосредственно с событиями 1917 года не связано. Следовательно, здесь не может быть стремления «подстроиться» под эпоху, как пишут Об этом некоторые недоброжелатели Белого из эмигрантского лагеря, которые но могут простить ему принятия социалистической революции12.
Итак, только что дождавшись опубликования «Петербурга», Белый приступает к его сокращению. 2 июля 1914 года он сообщает Иванову-Разумнику: «...«Серебряного Голубя» высылаю Вам вскоре, как только окончу разметку сокращений «Петербурга» для немецкого издания: издатель Георг Мюллер (в Мюнхене) выдвинул моей переводчице условие, чтобы «Петербург» был одним томом, а для этого надо было сократить его страниц на 100. Сокращая, я так увлекся работой, что думаю: для будущего русского издания я сокращу его тоже страниц на 150. При сокращении он выигрывает сильно»13.
В 1919 году Белый снова приступает к сокращению романа – на этот раз для «русского издания», как мечтал он. Роман должен был выйти в свет в «Издательстве писателей в Москве». По каким-то причинам издание не состоялось (экземпляр с правкой хранится ныне в собрании И. С. Зильберштейна).
Как видим, берлинское издание не явилось неожиданностью. Его появление подготовлялось начиная с 1914 года. Это было второе издание «Петербурга». Текст романа сокращен здесь на одну треть. Роман издан в двух книгах; деление текста проведено в соответствии с характером внутренней «конструкции» «Петербурга», о которой Белый писал в письме Блоку («томление перед грозой» и «гроза»): первый том – пролог и первые четыре главы, второй том – последующие четыре главы и эпилог.
Сокращая текст, Белый не стремится радикально изменить концепцию романа. Он лишь сглаживает ее, лишает остроты и внутренней напряженности (возможно, он считает, что ныне поставленные им проблемы лишились злободневности, перестали быть актуальными)14. Центральные мотивы романа остались незатронутыми, но стали звучать приглушенно. Снова выдвинулся мотив «мозговой игры», отчетливо выраженный в «журнальной» и «книжной» («некрасовской») редакциях, но сглаженный в «сириновском» изданий. Дело в том, что на начальных этапах работы над романом Белый придавал особое значение заимствованному у Достоевского мотиву призрачности города. В видениях 'героя романа «Подросток» Аркадия Долгорукова Петербург – не реальный город, а «греза», «чей-нибудь сон». Идя вслед за Гоголем и Достоевским, Белый и строит свою концепцию в первых редакциях на утверждении, что северная столица – «чья-то праздная мозговая игра», реализация «мысленных форм». Кому-то это все вообразилось, и город стал «реальностью», но «реальностью» мнимой, неестественной.
В «сириновской» редакции мотив этот оказался приглушенным, его вытеснили исторические реалии и подлинное ощущение драматизма эпохи – эпохи первой революции, представшей в конкретных и зримых чертах. Сглаживая в берлинском издании остроту исторического конфликта, Белый, возможно, невольно обнажает в некоторых сценах и лирических отступлениях момент «мозговой игры» (на отдельные случаи указывается далее в примечаниях к тексту).
Вместе с тем, работая в спешке – за время пребывания в Берлине с ноября 1921 по октябрь 1923 года им было издано 16 книг (семь переизданий и девять новых книг)15 – Белый не во всех случаях добивался улучшения текста. Изымая из текста романа абзацы, фразы, части фраз и ничем их не заменяя, он допускает недоговоренности; в отдельных случаях образуются смысловые зияния.
Белый действительно стремился в берлинском издании к «сухости, краткости, концентрированности изложения» (как пишет он в предисловии к изданию романа 1928 г.). И он многого тут добивается. Но поскольку работал он по готовому тексту, в котором уже оформилась своя стилистика, свои логические, грамматические и символические связи и сцепления, то нарушение одного компонента неизбежно влекло за собой нарушение и других.
Отдельные фразы лишились чисто грамматической завершенности; в некоторых случаях сказанное автором от первого лица получило смысл, который уже не имеет прямых связей с тем, что изображается в романе16.
Так, например, в берлинском (и в последующих) изданиях в начале главки «Наша роль» главы первой читаем:
«Петербургские улицы обладают одним несомненнейшим свойством: превращают в тени прохожих.
Это видели мы на примере с таинственным незнакомцем.
Он, возникши как мысль, почему-то связался с сенаторским домом; там всплыл на проспекте, непосредственно следуя за сенатором в нашем рассказе». Логический ход рассуждения здесь явно нарушен, так как из дальнейшего изложения становится ясно, что «видели мы» прямо противоположное – не превращение незнакомца в тень, а превращение мысли, возникшей в сенаторской голове, в реального незнакомца с усиками. Это объясняется тем, что, сокращая «сириновский» текст, Белый часть фразы, следующую за словами «превращают в тени прохожих», снимает. Снятый отрывок («тени же петербургские улицы превращают в людей») проясняет смысл вышесказанного и тогда никаких недоумений не возникает.
В главе первой берлинского издания имеется такой отрывок: «Лакей поднимался по лестнице; о, прекрасная лестница! И – ступени: мягкие, как мозговые извилины; по которой не раз поднимались министры». Здесь явно нарушена грамматика: «которой» относится к слову («лестница»), стоящему в предыдущем предложении17. В «сириновском» издании весь этот пассаж имеет развернутый вид, и там нет никаких стилистических нарушений.
То же самое произошло с началом четвертой главы (главка «Летний сад»). В «сириновской» редакции читаем: «Прозаически, одиноко туда и сюда побежали дорожки Летнего сада; пересекая эти пространства, изредка торопил свой шаг пасмурный пешеход, чтобы потом окончательно затеряться в пустоте безысходной; Марсово поле не одолеть в пять минут!» В берлинском издании смысл этого отрывка, достаточно ясный, не просто нарушается при сокращении, он вообще «улетучивается»: «Изредка торопил шаг пасмурный пешеход, – окончательно затеряться: Марсово поле но одолеть в пять минут». В таком прочтении получается, что пешеход «торопил шаг», спеша затеряться, тогда как на деле в романе речь идет о метафизических пространствах, со всех сторон окружающих человека; они могут расширяться до размеров вселенной или сужаться до размеров Марсова поля. Однако сам человек вовсе не спешит «затеряться» в них, его субъективная воля в данном случае роли не играет.
Смысловое нарушение произошло в берлинском издании в сцене возвращения Дудкина ночью к себе на чердак, где его поджидает оборотень Шишнарфнэ, который вступает с ним в разговор:
– «Извините, вы Андрей Андреевич Горельский?»
– «Нет, я Александр Иванович Дудкин...»
– «Да, по подложному паспорту...»
Александр Иванович вздрогнул: он действительно жил по подложному паспорту, но его имя, отчество и фамилия были: Алексей Алексеевич Погорельский, а не Андрей Андреич Горельский». В берлинском издании этот простой отрывок приобретает черты произнесенной скороговоркой невнятицы:
«– Андрей Андреич Горельский?»
«– Нет, Александр Иванович Дудкин...»
«– Да, но по паспорту...»
Александр Иванович вздрогнул; он жил по подложному паспорту; имя, отчество и фамилия; Алексей Алексеич Погорельский, а не Андрей Андреич». Здесь смешались подлинное и конспиративное имя Дудкина (ибо по паспорту как раз он и есть Дудкин). Далее в разговор входит тема Петербурга; Шишнарфнэ, желая подчеркнуть свою принадлежность и к реальному миру, заявляет: «...впрочем, родина моя – Шемаха; а я обитаю в Финляндии: климат Петербурга, признаюсь, и мне вреден»18. В берлинском издании фраза эта утратила смысл: «Впрочем, родина моя – Шемаха; климат же мне вреден». Что за климат? Как может быть вреден климат вообще? Затем разговор переключается на проблему «теневого мира» и характера «тени». Шишнарфнэ утверждает: «– Тень – даже не папуас; биология теней еще не изучена; потому-то вот – никогда не столкнуться с тенью: ее требований не поймешь; в Петербурге она входит в вас бациллами всевозможных болезней, проглатываемых с самою водопроводной водой...» Эта обычная для Белого мысль о Петербурге, как дьявольском наваждении и столице теней, приобретает в берлинском издании совершенно невнятный смысл: «– Биология тени еще не изучена; требований ее не поймешь; она входит бациллами, проглатываемыми (с) водопроводной водою...» Что входит бациллами – тень или биология тени?19
Примеры подобных нарушений смысла можно увеличить, но в конце концов не в них дело.
Роман и в его нынешнем виде (издания 1928 и 1935 гг.) дает достаточное представление о том круге проблем, которыми жил Андрей Белый в 1910-е годы – наиболее важный и ответственный период его жизни. Памятником этого периода и стал роман «Петербург».
В примечаниях к тексту романа использованы материалы, предоставленные мне С. С. Гречишкиным и А. В. Лавровым. – Л. Д.
1 Имелись и другие предварительные заглавия романа («Тени», «Злые тени», «Адмиралтейская игла»). По настоянию Вячеслава Иванова все они были отвергнуты и роман получил – по его же совету – то заглавие, с которым он вошел в историю литературы.
2 История отношений Белого с «Русской мыслью» в связи с «Петербургом» изложена в статье: Л. К. Долгополов. Андрей Белый в работе над «Петербургом» (эпизод из истории создания романа). – «Русская литература», 1972, № 1.
3 Блок тогда же отметил в письме А. М. Ремизову: «Если бы знали о Штейнере только от А. Белого, можно было бы подумать, что А. Белый сам его сочинил» («Звезда», 1930, № 5, с. 161),
4 Не исключено, что в этих сцепах, с их расширительно-иносказательным смыслом, отразилось и знакомство Белого со статьей А. Блока «Стихия и культура» (1908), в которой мысль о всеобщем неблагополучии также реализуется в форме ожидаемого взрыва. «История, – пишет здесь Блок, – та самая история, которая, говорят, сводится попросту к политической экономии, взяла да и положила нам на стол настоящую бомбу. И бомбу по простую, а усовершенствованную...» (А. Блок, Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М.-Л., 1962, с, 351).
5 А. Блок и А. Белый. Переписка. М., 1940, с. 304.
6 Там же, с. 317.
7 Там же, с. 320.
8 Имеется в виду поэма «Возмездие», над которой Блок интенсивно работал в те же годы.
9 А. Блок. Собр. соч., т. 7, с. 223-224,
10 А. Блок. Собр. соч., т. 7, с. 225.
11 ЦГАЛИ, ф. 1872, оп. 1, ед. хр. 4, л. 16.
12 И само издательство «Эпоха», осуществившее переиздание «Петербурга», занимало вполне лояльную позицию по отношению к Советской власти. Оно возникло в Берлине в начале 1922 г. как отделение одного из многочисленных в то время частных издательств, основанного в Петербурге в конце 1921 г. под тем же названием. Редакторами его были К. Чуковский и Е. Замятии. Белый сотрудничал как в берлинском отделении, так и в «центральном» издательстве «Эпоха», находившемся в Петербурге.
13 ЦГАЛИ, ф. 1872, он. 1, ед. хр. 4, л. 17. Немецкий перевод «Петербурга» вышел в Мюнхене в 1919 г. Он послужил своеобразным «мостом» от «сириновского» издания романа к берлинскому.
14 Именно поэтому нельзя согласиться с односторонней и по существу неверной оценкой этой редакции романа М. Г. Петровой, которая в своей статье «Первая русская революция в романах послеоктябрьского десятилетия» вопреки фактам утверждает, что «решительной переработке» подверглось во втором издании «все относящееся к теме революции». И прежде всего потому, что никакой решительной переработки не было (см. сб. «Революция 1905-1907 годов и литература». М., «Наука», 1978, с. 199).
15 См.: К. Мочульский. Андрей Белый. Париж, 1955, с. 239.
16 Некоторые из огрехов Белый попытался устранить в первом советском издании «Петербурга» 1928 г. (издательство «Никитинские субботники»), где полностью воспроизведен текст берлинского издания, но с дополнительными небольшими сокращениями и некоторыми исправлениями. В этом издании Белый в последний раз прикоснулся к тексту романа. «Петербург» получил здесь предисловие («Вместо предисловия»), в котором автор критически отозвался о «сириновской» редакции. В последний раз «Петербург» вышел в свет в 1935 г. (ГИХЛ) уже после смерти Белого по тексту 1928 г.
17 В издании «Никитинских субботников», пытаясь исправить эту оплошность, Белый еще более усугубляет ее: «И – ступени: мягкие, как мозговые извилины, по которым не раз поднимались министры».
18 Нельзя не указать на связь этих мыслей с рассуждениями о Петербурге как о городе «полусумасшедших» Свидригайлова в романе Достоевского «Преступление и наказание»: «Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге! Чего стоят одни климатические влияния! Между тем это административный центр всей России, и характер его должен отражаться во всем».
19 В издании «Никитинских субботников», желая, видимо, исправить оплошность, Белый опять усугубляет ее, непоследовательно заменив категорию «тени» на категорию «сновидения»: «– Биология сновидения еще не изучена; требований ее не поймешь; она входит бациллами, проглатываемыми с водопроводной водою...» Ясно сказано, что «входит» биология.
* 1 ...это не вина автора, а судеб постановки драмы «Петербург». – Спектакль по роману «Петербург» был поставлен на сцене МХАТ-2, 14 ноября 1925 г. Белому пришлось сильно переделать роман. Рецензией на спектакль откликнулся А. В. Луначарский (см. Л. К. Долгополов. А. Белый о постановке «исторической драмы» «Петербург» на сцене МХАТ-2». – «Русская литература», 1977, № 2, с. 173).
* 2 ...она заключает... Но – прочая, прочая, прочая. – Белый пародирует здесь полный официальный титул русского императора, включавший около 60 названий подвластных ему земель и кончавшийся словами: «и прочая, и прочая, и прочая».
* 3 ...Царь-град, Константина град... принадлежит по праву наследия. – Белый иронизирует над притязаниями реакционных кругов распространить русское влияние на территории бывш. Византийской империи (Византия получила название Константинополя или Константинограда в IV в. и. э., после того, как римский император Константин Великий перенес сюда столицу империи; в древней Руси Константинополь имел также название Царьграда). Претензии эти частично основывались на действительных связях между Россией и Византией, частично же на том факте, ч.то племянница последнего византийского императора Константина XI Софья Палеолог была выдана замуж за русского великого князя Иоанна Васильевича (Ивана III). Она привезла с собою трон, на котором был изображен двуглавый орел (как символ единства Восточной и Западной Римской империи), который позднее стал государственным гербом Российской империи.
* 4 Если же Петербург не столица, то – нет Петербурга. – Белый развивает в романе идею призрачности города и его значения именно и только как столицы пограничного государства, расположенного на стыке Запада и Востока. Не окажись Петербург столицей, он бы такого значения не имел.
* 5 ...и из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он – есть... – та же идея действительной, как считает Белый, нереальности города и вместе с тем того непомерно огромного значения, которое приобрел он в жизни Российской империи.
* 6 Эпиграф – из поэмы Пушкина «Медный всадник» Приведен неточно.
* 7 Сим – согласно Библии, старший сын Ноя, родоначальник многочисленного потомства. Народы, происшедшие, согласно преданию, от Сима, известны под названием семптов. Белый подчеркивает здесь восточное происхождение сенатора Аблеухова. Указание на хесситов, как на потомков Сима, не соответствует Библии. В этом же ряду упомянуты краснокожие народности, но это уже вымысел Белого.
* 8 Киргиз-кайсацкая орда – название киргизской народности, распространенное в XVIII и XIX вв., упоминается Державиным в оде «Фелица» (1782).
* 9 Анна Иоанновна (1693-1740) – племянница Петра I, русская императрица (1730-1740).
* 10 ...мирза Аб-Лай, прапрадед сенатора... – Не исключено, что Белый имеет в виду реального хана Аблая, султана Средней киргизской орды (ум. в 1781 г.). Его правнуком был Чокан Валиханов (1835-1865), известный казахский просветитель, этнограф, историк, находившийся в дружеских отношениях с многими русскими учеными, а также с Достоевским. Но исторический хан Аблай не состоял на русской службе и не был крещен. Только сын его, Валп-хан, признал над собой власть русских императоров, хотя произошло это только в 1782 г., в царствование Екатерины II. Возможен и еще один источник фамилии героя романа – подлинный род Облеуховых, пожалованный дворянством в начале XVII в. Представителя этого рода братья Антон Дмитриевич и Николай Дмитриевич Облеуховы играли заметную роль в литературной жизни конца XIX – начала XX в., занимая крайне реакционные, монархические позиции. О них упоминает в своем дневнике Брюсов (см.: В. Брюсов. Дневники. М., 1927, с. 22, 31-32 и др.).
* 11 ...предложение партии там, где следует, отклонялось. – Белый намекает на ту борьбу, которую вел Победоносцев (один из реальных прототипов Аблеухова) со всякого рода нововведениями. Одним из его противников был С. 10. Витте, активный сторонник буржуазных реформ, выведенный в романе и под своим именем, и под именем графа Дубльве, начальника девятого департамента.
* 12 Департамент – часть высшего государственного учреждения, иногда целое ведомство, существовавшее на правах министерства. Даваемая в романе характеристика Департамента, равно как и Учреждения, в котором главенствовал Аблеухов (возможно, Синод), восходит к повести Гоголя «Шинель» (1841).
* 13 Так был он недавно изображен: на заглавном листе уличного юмористического журнальчика... – Обобщенный эпизод из эпохи первой русской революции, времени расцвета сатирической журналистики (хотя Белый несколько сдвигает хронологию: сатирические журналы стали появляться только после манифеста 17 октября 1905 г., действие же романа, как видно из текста, развивается в самом начале месяца, заканчиваясь 9 октября). Постоянной мишенью карикатуристов был К. П. Победоносцев, и Белый мог иметь в виду какие-то конкретные изображения (см., например, карикатуру за подписью В. Беранже на обложке журнала «Паяцы», 1906, № 1). Показательна и цветовая гамма, используемая Белым: зеленые уши сенатора на кровавом фоне «горящей России». Зеленое (цвет Петербурга – цвет болота, плесени и одновременно цвет петровского мундира) и красное (цвет революции – цвет знамен, кроваво-красного домино, в которое облачится Николай Аполлонович) будут сопровождать повествование до конца.
* 14 ...установлена номенклатура всех полок и полочек; появились полочки под литерами: а, бе, це; а четыре стороны полочек приняли обозначение четырех сторон света. – Автобиографическая реминисценция Белого, который вспоминал в мемуарах о своем отце, известном математике профессоре Н. В. Бугаеве: «Не Аполлон Аполлонович дошел до мысли обозначить полочки и ящики комодов направлениями земного шара: север, юг, восток, запад, а отец, уезжающий в Одессу, Казань, Киев председательствовать, устанавливая градацию: сундук «А», сундук «Б», сундук «С»; отделение – 1, 2, 3, 4, каждое имело направления; и, укладывая очки, он записывал у себя в реестрике: сундук А, III, св. «СВ» – северо-восток...» (А. Белый. На рубеже двух столетий. М.-Л., 1930, с. 65). Так приоткрывается личный мотив в изображении жизни в сенаторском доме.
* 15 ...игрывала Шопена (не Шумана) Анна Петровна... – Упоминание Шопена также имеет автобиографический подтекст: Шопен – одно из первых детских музыкальных переживаний Белого, о чем он сам говорит в автобиографических записях. Шумана же Белый воспринимал в аспекте его психического заболевания, как выражение «трагической до безумия романтики реализма» (А. Белый. Воспоминания о Штейнере, ЦГАЛИ). Детству более соответствует по Белому Шопен.
* 16 Граф Дубльве. – Имеется в виду Сергей Юльевич Витте (1349-1915) – государственный деятель буржуазно-демократического толка. Название первой буквы немецкого написания фамилии (Witte) Белый делает именем персонажа. В сентябре 1905 г., после заключения мира с Японией (Витте возглавлял русскую делегацию на переговорах), он был возведен в графское достоинство.
* 17 Давид Жак-Луи (1748-1825) – французский живописец эпохи революции и правления Наполеона. Упомянута картина «Раздача знамен императором Наполеоном», выполненная в 1810 г.
* 18 ...герб: единорог, прободающий рыцаря. – Единорог – фантастическое животное, напоминающее лошадь с рогом посредине лба. Как геральдическая фигура вошел в герб Англии л в гербы русских великих князей – внуков императора. Не менее 20 русских дворянских гербов включали изображение единорога, однако среди них нет ни одного, который напоминал бы герб, описанный Белым. Изображение, данное в романе, имеет специфическую, но прозрачную символику: рыцарь – атрибут западной истории, «прободается» (то есть побеждается) мифологическим зверем, отдаленно связанным с восточной символикой.
* 19 Исакий – Ислакиевский собор в Петербурге.
* 20 ...конный памятник Императора Николая... – памятник Николаю I на Исаакиевской площади работы В. Клодта.
* 21 Летучий Голландец – легендарный образ морского капитана, обреченного вместе с кораблем вечно поситься по морю, не приставая к берегу; встреча с ним предвещает несчастье. Такая судьба – наказание его за вызов бурям (в других вариантах легенды – за безбожие). В романе Белого этот образ несет большую идейную нагрузку, объединяясь н даже идентифицируясь с образом Петра I и Медного всадника.
* 22 ...и такой же стоял там зелено-желтый туман. – Деталь (туман зелено-желтого цвета) восходит к общей идее призрачности Петербурга. (См. об этом на с. 356.) Из современников Белого ее использовал Д. С. Мережковский (см. его ромап «Петр и Алексей», явившийся частью трилогии «Христос и Антихрист»), преемственность от которого в «Петербурге» ощущается достаточно отчетливо.
* 23 Параллельные линии некогда провел Петр... – Б основе застройки Васильевского острова лежал проект, согласно которому здесь должна была быть создана система параллельных улиц (линий), прорезанных каналами. Идея осталась неосуществленной.
* 24 ...пахнет солью морскою... кожаной курткой и трубкой... – В представлениях о Петре I, ставших к началу XX в. традиционными, кожаная куртка и трубка – его непременные атрибуты; Белый как бы уничтожает расстояние между своей эпохой и эпохой Петра.
* 25 ...летийские воды... – Воды реки Леты, протекавшей, согласно эллинским мифам, в подземном царстве. Испив воды из Леты, души умерших забывали о земной жизни. Называя Летой Неву, Белый снова подчеркивает проводимую в романе мысль о нереальности, «потусторонности» Петербурга.
* 26 Сатурн – шестая большая планета солнечной системы (см. примеч. на с. 378).
* 27 Биржевка – «Биржевые ведомости», были в то время одной из самых популярных газет в Петербурге.
* 28 ...проволновался Китай, и пал Порт-Артур. – Имеются в виду Ихэтуаньское восстание в Китае (или востание «Больших кулаков», оно же «боксерское») 1899-1901 гг., направленное против империалистической агрессии, и падение Порт-Артура (декабрь 1904 г.), означавшее перелом в русско-японской войне. Белый воспринимал эти события в апокалиптическом духе, как начало поглощения «Европы» «Востоком».
* 29 Балт – Балтийское море.
* 30 «Вам с пикончиком?» – Пикон – род алкогольного напитка или эссенция, добавляемая в алкогольный напиток.
* 31 ...у Кистинтина Кистинтиновича... – Имеется в виду великий князь Константин Константинович Романов (1858-Л 1915), поэт, публиковавший стихи под литерами К. Р. Был знаком с некоторыми из русских символистов.
* 32 ...Вячеслав Константинович... – В. К. Плеве (1846-1904), министр внутренних дел и шеф жандармов, проводивший политику беспощадного подавления оппозиционных сил. Убит 15 июля 1904 г. эсером Е. С. Созоновым. Сенатор Аблеухов выведен Белым как друг и последователь Плеве и его политики.
* 33 «И нет его – и Русь оставил он...», «И мнится – очередь за мной...», «И над землей сошлися новы тучи...» – Из стихотворений Пушкина «Была пора: наш праздник молодой...» (1836) и «Чем чаще празднует лицей...» (1831).
* 34 Зевс (греч. миф.) – верховный бог, из головы которого произошла на свет богиня Афина Паллада.
* 35 ...лицевую субстанцию заслонила нахальная акциденция... – Субстанция (лат. substantia) – объективная реальность, сущность. Акциденция (лат. accidentia) – случайное, преходящее, несущественное.
* 36 Страз – поддельный хрустальный алмаз.
* 37 Кругом раздавалось: – «Что истина?» – Вопрос Понтия Пилата к Христу, выросший впоследствии в проблему большого философского значения. На слова Христа о том, что он «пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине», Пилат отвечает ему: «что есть истина?» (Евангелие от Иоанна, XVIII, 37-38). Этот вопрос неоднократно приводит в своих статьях Белый; см., например: «Участь наша есть участь Пилата: теоретически истину вопрошать, что есть истина; истина не отвечала Пилату: истины не призваны отвечать на вопросы об истине; истины предстают, чтобы их видели; за истиной следуют без вопросов» (А. Белый. На перевале. I. Кризис жизни. Пб., 1918, с. 47). В «Петербурге» Белый сознательно снижает содержание вопроса, который задается в чаду третьеразрядного ресторанчика; и столь же «заземленным» оказывается ответ на него (– «Истина – естина...» – «Знаю...» «А коли знаешь, хватай-ка тарелку да ешь...»). Быт и бытие сталкиваются, сближаются, что очень важно для понимания философской стороны романа.
* 38 Кант Иммануил (1724-1804) – немецкий философидеалист, сыгравший большую роль в эволюции миросозерцания Белого. Кантовский агностицизм (идея непознаваемости мира рассудочным путем), а также учение Канта о пространстве и времени, как субъективных формах чувственного созерцания, наложили заметный отпечаток на стиль мышления Белого, и в частности на роман «Петербург». Но Кант для Белого – и злой дух, искуситель, Мефистофель, соблазняющий отказаться от опытного знания вообще, целиком проникнуться идеей чувственного восприятия, идеей веры (см. стихотворение Белого «Искуситель», 1908). Своим личным восприятием Канта Белый отчасти наделяет и Николая Аполлоновича Аблеухова, который одновременно и революционер-террорист и философ-неокантианец, отвергающий в споре с отцом философию позитивизма (см.: А. Белый. Между двух революций. Л., 1934, с. 210).
* 39 ...желтого кирасира, барона Оммау-Оммергау... – Символика этого странного имени, связанного, очевидно, с названием баварской деревни Обероммергау, предположительно раскрыта в статье: Л. К. Долгополов. Символика личных имен в произведениях А. Белого. – Сб. «Культурное наследие древней Руси. Истоки. Становление. Традиции». М., «Наука», 1976, с. 350-351.
* 40 ...сила в ньютоновском смысле – оккультная сила. – Произвольное мистическое истолкование закона всемирного тяготения, открытого Ньютоном. По мысли Белого, материальный мир подвержен не только действию механической силы, но и сил оккультных, о чем он сказал в комментариях к своей статье «Формы искусства» (см.: А. Белый. Символизм. М., 1910, с. 510).
* 41 Сознание отделялось от личности... – антропософская идея о возможности существования сознания вне материальной оболочки.
* 42 ...увидел бы голову Горгоны медузы. – Горгона (греч. миф.) – крылатое чудовище в женском облике, с волосами из змей. Медуза – один из трех обликов Горгоны.
* 43 ...застывшая Ниобея поднимала горе алебастровые глаза. – Ниобея (греч. миф.) – фиванская царица, мать четырнадцати детей, которые были убиты богами в наказание ей за чрезмерную гордость; от горя она окаменела. Изображается обычно в скорбящей позе. Проблема «материнства» (как, с другой стороны, проблема «отцовства») – особая и важная проблема романа.
* 44 Лиза – персонаж оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама», созданной по повести Пушкина, впервые поставленной (в Петербурге) в 1890 г. и сразу же ставшей популярной. Чисто петербургская зрительная и музыкальная «стилистика» оперы оказала заметное влияние на общее формирование образа Петербурга в кругах художественной интеллигенции рубежа веков (см.: К. Петров-Водкин. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л., 1970, с. 318). Белый широко вводит в текст романа мотивы, образы, эпизоды «Пиковой дамы», своеобразно их «переигрывая» (Лизе в романе соответствует вздорная мещаночка Софья Петровна Лихутина, Германну – безвольный Николай Аполлонович, революционер поневоле). В первой главе – пародийная реминисценция одной из центральных сцен оперы (у Зимней канавки).
* 45 Геркулес, Посейдон – скульптуры, украшающие фронтон Зимнего дворца.
* 46 Николаевка – шинель особого фасона (с пелериной), полупившая распространение в годы царствования Николая I.
* 47 Эпиграф – из неоконченной поэмы Пушкина «Езерский» (1862).
* 48 ...передовицы «Товарища»... – В 1905 г. такой газеты не было. В Петербурге газета «Товарищ» выходила с апреля 1906 г. по декабрь 1907 г., в Москве – с ноября 1906 г. по июнь 1909 г.
* 49 Конап-Дойль Артур (1859-1930) – английский писатель, автор популярных произведений о сыщике-любителе Шерлоке Холмсе.
* 50 ...спириты составили цепь... – Спиритическая цепь – наиболее целесообразное с точки зрения проявления медиумических феноменов расположение участников спиритического сеанса вокруг стола.
* 51 ...называли всегда ангел Пери... – ироническая реминисценция из поэмы В. А. Жуковского «Пери и Ангел» (1821), явившейся переделкой второй части «восточной» поэмы Томаса Мура «Лалла Рук» – «Рай и Пери». Пери, по объяснению Жуковского, – «воображаемые существа, ниже ангелов, но превосходнее людей... живут в цветах радуги и порхают в бальзамических областях».
* 52 ...японские пейзажики, изображавшие вид горы Фузи-Ямы... – Фудзи-Яма – священная гора Японии, прославленная в легендах и песнях, объект внимания и поклонения японских художников. В описании квартиры Софьи Петровны, как и в других случаях (например, в описании комнат Николая Аполлоновича Аблеухова, – см. дальше, с. 74), Белый нарочито подчеркивает восточные черты быта представителей самых разных социальных слоев петербургского общества, чему в действительности способствовала и мода, распространившаяся в начале века на восточное (в частности, японское) искусство, архитектурные украшения, интерьеры, безделушки и т. д. Белый возводит эти черты в символ широкого обобщения идейного значения (угроза поглощения России Востоком и утрата ею национальных черт), подчеркивая вместе с тем бесперспективность, обреченность иноземных влияний (см. далее, как обыгрывается в романе действительное отсутствие в японской живописи художественной перспективы, которое становится бесперспективностью жизненного свойства: «...в пейзажиках не было перспективы... и в комнатах... тоже не было перспективы...»).
* 53 принадлежит перу Хадусаи (Хокусая)... – Хокусай Кацусика (1760-1849) – великий японский художник, автор нескольких десятков тысяч рисунков.
* 54 Демимонд (франц.) – средний слой общества, подражающий высшему слою, полусвет.
* 55 ...Дункан и Никиш. – Дункан Айседора (1878-1927) – американская танцовщица, одна из основоположпиц пластической школы «танцы модерн». Никиш Артур (1855-1922) – венгерский дирижер, пользовавшийся популярностью в кругах модернистов.
* 56 ...танец полета Валькирий в Байрейте... – Валькирии – в древнескандинавском эпосе девы-богини войны и победы; полет Валькирий – эпизод в опере Р. Вагнера «Валькирия» (1852); Байрейт – город в Баварии, где был выстроен театр специально для исполнения опер Р. Вагнера.
* 57 ...книжечка «Человек и его тела» госпожи Анри Безансон (Софья Петровна опять-таки путала)... – В «сиринонской» редакции романа фраза имела продолжение (после двоеточия): «не Анри Безансон – Анни Безант» – Безант Анни (1847-1933) – английская писательница, один из лидеров теософского движения, ставившего целью проследить связи человека (и его «тел» – видимых и невидимых) с «мировыми сферами». Упомянутая книга вышла в Англии в 1896 г. и затем переиздавалась (по-английски). В переводе на русский язык издана не была.
* 58 ...подпоручик Гр-горийского его величества короля сиамского полка... – Такого полка в русской армии не было, однако одним из шефов лейб-гвардии гусарского полка был сиамский принц.
* 59 «Смерть Зигфрида» – финальный эпизод оперы Р. Вагнера «Зигфрид».
* 60 Красный шут – образ красного шута (как и красного домино) восходит к рассказу американского писателя Э. По «Маска Красной смерти», творчество которого хорошо знал и ценил Белый. См. также балладу Белого «Шут», созданную в 1911 г., одновременно с началом работы над романом; вошла в сб. А. Белого «Королевна и рыцари», Пб., 1919. (См. примеч. на с. 373). О функции красного цвета в системе цветовой гаммы романа см. примеч. на с. 361.
* 61 Цирк Чинизелли – стационарный цирк на Фонтанке, принадлежавший цирковому актеру, итальянцу по происхождению, С. Чинизелли.
* 62 ...у баронессы R. R. были постукиванья... – Имеется в виду спиритический сеанс. .
* 63 В этот час замерзания чьи-то холодные пальцы, просунувшись в грудь, жестко гладили сердце... – Аллегорическое изображение пленения души сенатора «нечистой силой», у которой всегда холодные, бескровные руки (см. далее – у сыщика Морковина также «ледяная рука», и он тоже ведет сенатора сквозь «пространства»; сенатор оказывается полностью во власти «дьявола»). Восходит аллегория Белого к новелле Вл. Соловьева «Краткая повесть об Антихристе», помещенной им в составе диалогов, озаглавленных «Три разговора» (1899-1900). «Острая ледяная струя» входит в повести Вл. Соловьева в «героя», «наполняя все существо его». Схожи и имена героев: Аполлоний у Вл. Соловьева, Аполлон у Белого; причем характеризуется Аполлоний как «полуазиат и полуевропеец», что также приложимо к сенатору Аблеухову.
* 64 ...в торричеллиевой пустоте... – Имеется в виду безвоздушное пространство, образующееся над поверхностью жидкости в закрытом сосуде. Названо по имени итальянского физика Э. Торричелли (1608-1647).
* 65 ...читаю историю гностицизма, Григория Нисского, Сирианина, Апокалипсис. – Белый подчеркивает чисто религиозные увлечения своего героя – эсера и террориста, показывая его внутреннюю неустойчивость и противоречивость взглядов. Гностицизм – общее обозначение религиозно-философских систем, использовавших мотивы восточной мифологии и ряда раннехристианских еретических учении и сект. Григорий Нисский – епископ и учитель церкви, живший в IV в. н. э. Сирианин (Исаак Сириянин) – религиозный проповедник VII в. н. э., уделявший много внимания проблемам «праведности» и «греховности». Апокалипсис («Откровение святого Иоанна Богослова») – заключительная книга новозаветного канона, заключающая в себе пророческие предсказания о новом пришествии Христа и суде над миром. В творчестве Белого, как и других символистов, идеи и образы Апокалипсиса занимали большое место.
* 66 Гарнак Адольф (1851-1930) – немецкий богослов, автор известного труда «Сущность христианства».
* 67 «Из Якутской области я удачно бежал; меня вывезли в бочке из-под капусты...» – Подлинный факт из биографии эсера Г. Гершуни (1870-1908) – одного из отдаленных прототипов Дудкина.
* 68 «...я ведь был ницшеанцем». – Ницшеанец – последователь учения немецкого философа Фридриха Ницше (1844-1900), разработавшего идею сильной личности («сверхчеловека»), которой суждено будет пересоздать «одряхлевшую» европейскую культуру. Этой своей идеей, а также другими сторонами философии (принципом индивидуализма, идеей «Диониса», как воплощения трагической стороны души человека, проповедью вседозволенности и др.) Ницше вообще широко вошел в литературную жизнь декадентских кругов. Определенную дань увлечению философией Ницше отдал и Андрей Белый, на которого сильное впечатление произвела работа Ницше «Происхождение трагедии из духа музыки», где как раз «темное» начало человеческой души противопоставлено началу светлому, аполлоническому. В романе Белый делает ницшеанцем террориста Дудкина, подчеркивая, очевидно, ущербность его как борца с социальной несправедливостью.
* 69 ...бледнотонная живопись подражала Помпее. – В «сириновской» редакции было: «подражала фрескам Помпеи», имеется в виду знаменитая настенная живопись итальянского города Помпеи, разрушенного извержением Везувия в 79 г. н. э.
* 70 Кайгородов Д. Н. (1846-1924) – известный естествоиспытатель, фенолог.
* 71 ...загадочный всадник... – Медный всадник, конный памятник Петру I на Сенатской площади, работы Э. Фальконе. Установлен в 1782 г. Образ Всадника возводится Белым к поэме Пушкина «Мерный всадник» и сопоставляется с нею на всем протяжении романа (ср. далее: огромный Всадник, металлический Всадник, мощный Всадник). Это и пушкинский Медный всадник, и символ России, оказавшейся в начале XX в., как и в начале XVIII в., на новом историческом рубеже.
* 72 ...от великого труса... – Трус (древнерусск.) – землетрясение.
* 73 ...будет, будет – Цусима! Будет – новая Калка!.. – Цусима – цусимское морское сражение у островов Цусимы в Корейском проливе 14-15 мая 1905 г., закончившееся поражением русской эскадры. Калка – приток реки Калмиус, на котором в мае 1223 г. русские потерпели поражение в битве с монголо-татарским войском.
* 74 Куликово Поле – место сражения русских войск Дмитрия Донского с войском золотоордынского хана Мамая (8 сентября 1380 г.). Сражение закончилось победой русских и стало важной вехой на пути полного освобождения Руси от татаро-монгольского ига. Все эти события Белый переосмысляет в духе эсхатологических («пророческих») идей Владимира Соловьева, относительно неизбежного нового нашествия монгольских орд. Ср. также стихотворный цикл Блока «На поле Куликовом» (1908), который произвел сильное впечатление на Белого.
* 75 Воссияет в тот день и последнее Солнце над моею родною землей. – Причины написания Солнца с прописной буквы связаны с тем значением, которое Белый придавал этому слову в момент создания «Петербурга». В рукописи романа (хранится в Рукой, отд. ИРЛ И) приведенная фраза имела продолжение, которое раскрывало смысл всего отступления: «то Господь наш, Христос». Оно было вычеркнуто (кем именно, Белым или сотрудниками издательства, пе совсем ясно) и не попало даже в «сириновский» текст.
* 76 Мастеровой пробирался там... – В «сириновской» редакции имелось объяснение: «Мастеровой был сын захудалого лавочника; был оп по имени Степка...» Это персонаж романа Белого «Серебряный голубь», перешедший в «Петербург». Далее следует его рассказ дворнику Моржову о «мудреных людях» – секте «голубей», которая изображалась в «Серебряном голубе».
* 77 А Лев Николаевич – книжечку его изволили читывать? – Имеется в виду брошюра Л. Н. Толстого «Первый винокур, или Как чертенок краюшку заслужил» (1886) – народная комедия, в которой демонстрируются беды, приносимые вином.
* 78 «Кумирню какую-то строят китайцы!» – Возможно, здесь отражен реальный факт: строительство в районе Старой Деревни буддийской молельни, вызвавшее определенный общественный резонанс. Постройка велась при поддержке далай-ламы. Белый, однако, сдвигает хронологию: молельня строилась в 1909-1915 гг.
* 79 ...соберется к исходу двенадцатого... – По мнению Белого, двенадцатые годы каждого столетия играли особую провиденциальную роль в истории России (1512 и 1612 – смута, 1812 – нашествие французов и т. д.). Свою теорию на этот счет он развил в письме М. К. Морозовой, написанном, когда работа над «Петербургом» уже началась (см.: Известия Академии наук СССР, серия литературы и языка, 1975, № 1, с. 55).
* 80 Эпиграф – из поэмы Пушкина «Езерский».
* 81 Белый Орел – польский орден, вошедший в состав российских орденов в 1815 г. Имел одну степень. Им награждались высокопоставленные чиновники.
* 82 ...руке, которая подписала только что условия одного договора... – Речь идет о Портсмутском русско-японском мирном договоре, который Витте подписал 23 августа 1905 г. и который рассматривался как его большая дипломатическая победа. Договор был ратифицирован Николаем II 3 октября 1905 г.; 5 октября был издан по этому поводу высочайший манифест. Следовательно, можно полагать, что описанный в романе прием во дворце как-то связывается А. Белым с этим событием, явившимся зенитом славы Витте («графа Дубльве»).
* 83 ...ряд эскадронов – кирасирских, кавалергардских... – Особо привилегированные конные полки, состоявшие из нескольких эскадронов.
* 84 ...«деваханический друг»... «...с будхической искоркой». – Девакан (в буквальном переводе с санскрита – «место богов») – теософское название неба, мир блаженства и радости. Буддхи (Будди) – от санскритского названия мудрости – сфера «мировой души», духовное жизненное начало, сфера мудрости и любви.
* 85 Опопонакс – ароматическая смола с мускусным запахом; служила для приготовления духов того же названия.
* 86 ...«Theorie der Erjahrung» Когена... – Имеется в виду исследование Г. Когена «Kants Theorie der Erfahrnng» («Теория познания Канта», 1871, 2-е изд. – 1885). Белый изучал эту книгу в октябре 1907 г. Коген Герман (1842-1918) – немецкий философ и логик, глава марбургской школы неокантианства, утверждал тождественность мышления и бытия и рассматривал бытие как переплетение логических отношений.
* 87 «Канта Конт опроверг?» – Конт Огюст (1798-1857) французский философ и социолог, основоположник позитивизма, популярного в среде русской интеллигенции во второй половине XIX в.
* 88 ...подробности о когортах... – Когорта с конца II в. до н. э. – основная тактическая единица римской армии (600 человек). Десять когорт образовывали легион.
* 89 «Ты бы, Коленька, читал Логику Милля...» – Милль Джон Стюарт (1806-1873) – английский философ-позитивист, логик и экономист; строил систему логики на базе эмпирического психологизма. Главный труд Милля «Система логики» (1843) многократно издавался в русских переводах.
* 90 ...проглотивший Зигварта... – Зигварт Христоф (1830-1904) – немецкий логик, философ-неокантианец. Автор двухтомного труда «Логика» (1873-1878; русский перевод – СПб., 1908. Называя «Логику» Зигварта «замечательным сочинением», Белый утверждал, что Зигварт, в противоположность Миллю, – «сторонник гносеологического обоснования логических проблем; он много сделал для освобождения проблем логики от всяческого психологического привкуса» (А. Белый. Символизм. М., 1910, с. 475).
* 91 Некогда Аполлон Аполлонович был профессором философии права... – Непосредственная перекличка с биографией К. П. Победоносцева, который в 1846 г. окончил курс в училище правоведения и впоследствии занимал кафедру гражданского права и преподавал законоведение.
* 92 Глядя на луч пурпурного заката... – Популярный в начале XX в. романс А. А. Оппеля на слова стихотворения «Забыли вы...» П. А. Козлова (1841-1891). Вторая строка приведена Белым неточно; нужно: «Стояли мы на берегу Невы». Белый очень лично воспринимал этот романс, который любила петь его мать. В воспоминаниях, рассказывая о трагической истории своей любви к Л. Д. Блок, обострившей его восприятие Петербурга как города мрачного, рокового, Белый писал: «...бегаю под дворцами по набережным гранитам; и вот – шпиц Петропавловской крепости; сижу у Медного Всадника; лунными ночами смотрю на янтарные огонечки заневских зданий от перегиба Зимней Канавки, припоминая, как в феврале мы с Щ. (под этой буквой зашифрована Л. Д. Блок. – Л. Д.) стояли здесь, «глядя на луч пурпурного заката», мечтая о будущем... отблески этого – в «Петербурге», романе моем...» (см.: А. Белый. Между двух революций, с. 81).
* 93 ...не сказал: «Я люблю»; и в себя он не выстрелил. – Имеются в виду сцены оперы Чайковского «Пиковая дама». Софья Петровна приписывает Германну слова ариозо Елецкого: «Я вас люблю, люблю безмерно» (действ. 2, картина 3). Финал оперы – самоубийство Германна.
* 94 Эпиграф – начальная строка стихотворения Пушкина (1833).
* 95 ...Под фигурною позой Иреллевской статуи... – Статуи с таким названием в истории Летнего сада не обнаружено. Возможно, что это описка Белого (или не замеченная им опечатка) и что имеется в виду конная статуя Петра I работы скульптора Бартоломео Карло Растрелли (1675-1744), установленная в верхней части Летнего сада у подъезда Михайловского (Инженерного) замка. (Вместо «Иреллевская» в таком случае следует читать «Растреллиевская».)
* 96 Бурмитские зерна – крупные, круглые жемчужины.
* 97 Духов день – церковный праздник.
* 98 ...из ...дремлющих ильм... – Ильмы – деревья из породы вязовых.
* 99 Кутафья (просторен.) – неуклюже одетая женщина.
*100 ...костюм Помпадур... – Маркиза де Помпадур Жанна-Антуанетта Пуассон (1721-1764) – фаворитка французского короля Людовика XV, была законодательницей мод.
*101 ...с двухфунтовой бонбоньеркою шоколада: от Крафта. – Крафт – владелец шоколадной фабрики «И. Крафт», помещавшейся на Итальянской улице.
*102 ...с бонбоньеркою от Балле... – Балле – имя владельца кондитерской на Невском проспекте, 54.
*103 Кровавился рыже-красный дворец... – Зимний дворец в Петербурге, выстроенный в 1750-1761 гг. по проекту архитектора В. В. Растрелли (1700-1771).
*104 Елизавета Петровна (1709-1761) – дочь Петра I, русская императрица (1741-1761); Александр Павлович (1777-1825) – русский император Александр I (1801-1825); Александр II (1818-1881) – русский император (1855-1881).
*105 ...усеянным котильонными побрякушками. – Котильон – бальный танец, а также бальная игра с фантами. Здесь речь идет о фантах для игры.
*106 ...заплетал контрданс... – Контрданс – бальный танец (кадриль).
*107 ...профессор статистики ...либеральный професссор... – С образом либерального профессора, явившегося на бал с целью заключить альянс с правительственной партией (в лице Аполлона Аполлоновича), Белый связывал неудачу, постигшую его роман в «Русской мысли» П. Б. Струве: «...я, как всегда, нетактично дал маху, попавши не в бровь, а в глаз Струве; у меня в романе изображен рассеянный либеральный деятель, на последнем митинге сказавший радикальную речь и тут же переметнувшийся вправо; и по виду своему, и по политической ситуации это был живой портрет Струве, который увидел себя, тогда как у меня не было и мысли его задеть; тем больнее в него я попал; он был в бешенстве» (А. Белый. Воспоминания, т. III, ч. 2 – «Литературное наследство», т. 27-28. М., 1937, с. 455). Никаких документальных свидетельств, подтверждающих рассказ Белого, обнаружить не удалось.
*108 ...выступление в Китае Больших Кулаков... – Имеется в виду Ихэтуаньское восстание (1899-1901 гг.) в северном Китае. – См. примеч. на с. 363.
*109 Кто вы, кто вы, гость суровый... – Четверостишие (как и вся сцена появления на маскараде Николая Аполлоновича в красном домино) непосредственно связаны со стихотворениями Белого «Маскарад» (1908) и «Праздник» (1908) из сборника «Пепел» (1909). В стихотворениях, как и в романе «Петербург», изображается появление рокового красного домино на празднестве-маскараде. Этот образ восходит (особенно наглядно в стихотворении «Маскарад») к рассказу Эдгара По «Маска Красной смерти» (1842) (см. примеч. на с. 367); однако разрешение одинаково заданной ситуации у Э. По и в «Петербурге» не совпадает: у Э. По «и Тьма', и Тлен, и Красная смерть обрели безграничную власть надо всем», в то время как герои Белого, появившийся на маскараде с целью эпатировать публику, сам внезапно оказывается во власти провокации, вызывая жалость и насмешки. Помимо своей сюжетной функции красное домино воплощает идею рокового предзнаменования и предостережения; впоследствии Белый прямо назовет этот образ «символом восстания» (А. Белый. Начало века. М.-Л., 1933, с. 479) и «социальной революции» (А. Белый. Воспоминания о Блоке. – «Эпопея», 1923, № 4, с. 265).
*110 ...конфетти... бумажная лента... – Белый спутал конфетти (кружочки из разноцветной бумаги) с серпантином (узкие разноцветные бумажные ленты, которыми перебрасывается публика на балах, маскарадах и карнавалах).
*111 ...увидел он монстра с двуглавой орлиною головою... – Намек на герб Российской империи, изображающей двуглавого орла.
*112 ...на рыцаръка кинулось однорогое существо и обломало у рыцаря световое явление... – Намек на герб Аблеуховых («единорог, прободающий рыцаря») и одновременно на приснившийся сенатору сон (см. глава третья, главка «Второе пространство сенатора»), – в обоих случаях происходит столкновение и один (рыцарь – сенатор) терпит поражение.
*113 ...вы опираетесь на измышления Таксиля... – Таксиль Лео (паст, фамилия Пажес Габриэль Аптуан; 1854-1907) – известный французский публицист, автор многочисленных произведений, направленных как против ортодоксальной церкви, так и против масонства. В 1884 г. мнимо вернулся в лоно церкви, удостоился аудиенции римского папы; затем публично объявил о своей мистификации, выпустил ряд новых антицерковных памфлетов, вызвав ненависть в клерикальных кругах.
*114 ...исповедуют палладизм... – М. А. Орлов, пересказавший мистификаторскую книгу Л. Таксиля «Дьявол в XIX столетии», определяет палладизм как «высшее масонство и ...чистое демонопоклонство». Восходит к Палладиуму – статуе Афины Баллады – высшей святыне эллинов (см.: М. А. Орлов. История сношепий человека с дьяволом. СПб., 1904, с. 315).
*115 «– Вы вот все отрекаетесь: я за всеми хожу...» – В «сириновской» редакции ответ «печального и длинного» имел более развернутый характер: «– Вы все отрекаетесь от меня: я за всеми вами хожу. Отрекаетесь, а потом призываете...» – Это символ Христа (белое домино), который в общей конструкции романа противостоит и идее террора, воплощенной в красном домино Николая Аполлоновича, и символу Петра I – Медному всаднику.
*116 ...И ничего не светило... тьма объяла его... – Евангельская реминисценция, но с ироническим и полемическим подтекстом (ср.: «И свет во тьме светит, и тьма по объяла его». – Евангелие от Иоанна, гл. I, § 5).
*117 ...они разорвали... другого, посланного судьбой... первого между первым и... – Намек на убийство В. К. Плеве (см. примеч. на с. 303). Белый мог иметь в виду также убийство великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы; эти два события объединялись в его сознании. Он писал впоследствии: «был убит Плеве и бомбою разорвали великого князя Сергея...» (А. Белый. Между двух революций, с. 6).
*118 «От финских хладных скал до пламенной Колхиды...» – Цитата из стихотворения Пушкина «Клеветникам России» (1831).
*119 Пора, мой друг, пора!.. Покоя сердце просит... – Начальная строка стихотворения Пушкина (1836).
*120 Эпиграф – из романа Пушкина «Евгений Онегин» (глава шестая, XXII); третья строка у Пушкина: «А я – быть может, я гробницы...»
*121 ...сосед – какой-то гигант, с темно-зеленой поярковой шляпой... с маленькими усами. – Видение Петра I, которое будет сопровождать Николая Аполлоновича и сыщика Морковина и далее (в ресторане, куда они вошли, за соседним столиком «опустилась громада – из камня»; ср. в «сириновской» редакции: «За столиком грузно так опустилась тяжеловесная, будто из камня, громада»).
*122 «Уймитесь, волнения страсти...» – Романс М. И. Глинки «Сомнение» (1838) на слова «Английского романса» Н. В. Кукольника. Романс имел особое значение для Белого; он сделал его одним из лейтмотивов «четвертой симфонии» «Кубок метелей» (1908): ее третья часть называется «Волнения страсти», строки романса многократно цитируются в «симфонии», приобретая значение разлуки с вечностью и томления души по запредельному.
*123 «– Не думайте, чтобы узы те... пролитие крови...» – намек на роман Достоевского «Преступление и наказание», в котором идея «пролитой крови» вырастает в нравственную проблему большого значения. И весь разговор сыщика Морковина с Николаем Аполлоновичем Белый строит по типу «разговоров», которые вел следователь Порфирий Петрович с Раскольниковым.
*124 Помню я роковое мгновение: урез сырые перила сентябрьскою ночью и я – перегнулся... – Действительный факт из жизни Белого, когда он, «истерзанный» отношениями с Л. Д. Блок, чуть было не покончил с собой. (См. А. Бел ы й. Между двух революций, с. 97-98).
*125 С хохотом побежал он от Медного всадника... – Реминисценция из поэмы Пушкина «Медный всадник»; Николай Аполлонович идентифицируется здесь с Евгением, убегающим от памятника.
*126 ...у которого в уме завертелися строчки: Краски огненного цвета... – четверостишие написано самим Белым (ср.: А. Белый. Котик Летаев. П., «Эпоха», 1922, с. 57).
*127 ...японец, учивший Дэюу-Джицу... – Джиу-джицу (японск. – дзюдзюцу) – японская система самозащиты и нападения без оружия.
*128 ...ясно представил себе: действие негодяя... – Речь идет о сложных отношениях отца и сына (взаимная любовь и взаимная неприязнь), что отчасти отражает личные переживания Белого периода детства, связанные с ненормальной обстановкой в семье. В «сириновской» редакции момент этот был выражен более отчетливо; приведенная часть фразы имела здесь продолжение: «...ясно представил себе: одно скверное действие негодяя над негодяем...»
*129 ...тысячерукий титан немо плакался там на свое одиночество: «Приходите, идите – к старинному солнцу!» – Воспроизведение мотива ранних стихотворений Белого, воспевавших солнце и призывавших «умчаться» к нему (см. сборник Белого «Золото в лазури». М., 1904).
*130 «Пе́пп Пе́ппович Пе́пп...» – В этом детском бреде Николая Аполлоновича нашли отражение переживания юного Белого, связанные с его гимназическим преподавателем латыни Казимиром Клементьевичем Павликовским, которого будущий поэт ощущал «мучителем», а себя – «жертвой». В «Записках чудака», рассказывая о латинисте, Белый называет его «Казимир Кузмич Пепп» и пространно повествует о своих переживаниях и снах: «...смутно чуялось мне: Казимир Кузмич Пепп вел подкоп под меня; понял я; будет день; и – взлетит моя комната; стены развалятся; бреши и дыры проступят отчетливо; в дыры войдут «Казимир-Кузмичи» из подземного мира: в естественном, в до-человеческом образе... произойдут кавардаки...» (А. Белый. Записки чудака, т. 2. М. – Берлин, 1922, с. 179).
*131 Будда – верховное божество в буддизме, одной из трех наиболее распространенных в мире религий (наряду с христианством и исламом).
*132 ...логика развивалась тибетскими ламами... – Имеются в виду сочинения древнеиндийских философов-буддистов, в частности Дхармакирти, переведенные на тибетский язык и включенные в сборник ламаистской литературы Данджур. Лама – буддийский монах на территории Тибета и Монголии (см. следующее примеч.).
*133 ...Николай Аполлонович вспомнил, что он читал логику Дармакирти с комментарием Дармоттары... – Дармакирти (Дхармакирти) (VII в.) – крупнейший индийский теоретик логики буддийской школы, автор семи логических трактатов, основополагающих для всей последующей буддийской литературы по этому предмету. Дармоттара (вторая половина IX в.) – индийский философ и логик, автор как оригинальных сочинений, так и толкований произведений Дармакирти (см.: Ф. И. Щербатской. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Часть I. Учебник логики Дармакирти с толкованием на него Дармоттары. СПб., 1903). Эта книга, по всей вероятности, находилась в личной библиотеке Белого; известно, что В. Брюсов запрашивал у него в феврале 1904 г. ее точное название и выходные данные и что Белый сообщил их в ответном письме (ГБЛ, ф. 25, карт. 10, ед. хр. 9а; ф. 386, карт. 79, ед. хр. 1). Рассказывая в автобиографической поэме «Первое свидание» (1921) об увлечениях юности, Белый упоминает и «великого делом Дармоттару».
*134 Кон-Фу-Дзы – Конфуций, Кун-Фу-цзы (551-479 до н. э.) – китайский мыслитель, политический деятель и педагог, создатель этико-политического учения, оказавшего огромное влияние на развитие общественно-политической и философской мысли в Китае и ставшего со временем основой официальной феодальной идеологии Китая.
*135 Митра – головной убор епископов, архимандритов, протопресвитеров и протоиереев русской православной церкви.
*136 ...разъял губы хронически... – Каламбур: значение прилагательного «хронический» (затяжной или периодически возобновляющийся); совмещается со значением имени «Хронос» (см. следующее примеч.).
*137 ...пожаловал Хронос... – Хронос – символ абсолютного времени. В орфической космогонии – одно из мировых начал, наряду с Зевсом (принцип жизни) и Хтонией (земное начало). В других орфических сочинениях Хронос – безначальное время, создавшее из эфира и хаоса серебряное яйцо, из которого вышел перворожденный из богов Фанет (Эрот), носитель всех зародышей мира. Хронос как символ времени изображался с косой в руке.
*138 ...под Нирваною разумел он – Ничто. – Нирвана (санскритск. – угасание) – одно из основных понятий буддийской религии, означает цель «пути освобождения», некую высшую святость. Противопоставляется признакам обусловленных вещей: это вечность, бессмертие – в противоположность всему изменчивому, непостоянному; покой и прекращение страдания – в противоположность миру, полному волнений и страстей.
*139 ...он – старый туранец... – Туран, туранцы – географический и этнографический термин, не имеющий точно установленного значения. Употребляется (хотя не совсем точно) для общего обозначения тюркских народов.
*140 ...Старинный Дракон... – Дракон – принадлежность фольклорных сказаний и искусства многих восточных народов. Здесь – олицетворение Востока.
*141 ...Срединной империи... – Срединная империя (Чжунь-го) – официальное название Китая в эпоху династии Чжоу (1122-249 гг. до н. э.); употреблялось и позднее.
*142 ...валится на Сатурн... Но Сатурн, Аполлон Аполлонович... ответил... – В системе категорий, на которых базировалась своеобразная космогония «Петербурга», Сатурну принадлежит особая роль. В этом понятии совмещались значения, как мифологические, так и астрофизические: 1) Сатурн – шестая планета солнечной системы, отличная от других планет тем, что имеет вокруг себя кольцо, расположенное в плоскости экватора; 2) в древнеиталийской религии Сатурн – бог посевов, покровитель земледелия, отождествлявшийся с древнегреческим титаном Кроном (Хроносом), с которым связывались, в свою очередь, несколько представлений – о «Золотом веке», об абсолютном времени (вне пространства), о сложных взаимоотношениях с детьми. Это последнее представление для Белого, автора «Петербурга», было особенно важным (проблема отцеубийства – одна из центральных в романе; она связывалась в сознании Белого и с мифологическими образами, и с романом Достоевского «Братья Карамазовы»), Сатурн-Кронос, узнав, что его должен будет убить собственный сын (прямое совмещение с идеей «Петербурга»: Сатурн – Аполлон Аполлонович Аблеухов), стал пожирать рождавшихся у пего детей. Удалось спастись младшему, Зевсу, который став взрослым, начал войну с Кроном и титанами, одержал победу и заключил побежденных в Тартар; 3) Сатурн – стадия в развитии мира (это значение развивалось в теософском и антропософском учениях, где Сатурн рассматривался как этап мировых перевоплощений – первое воплощение планеты Земля). Белый в «поэме о звуке» «Глоссалолия» по-своему перелагает антропософские положения о Сатурне: «Действо жизни Начал, теплота, была суммой термических колебаний во времени: времена истекли из Начал. Протекал первый день: назывался Сатурном» и т. д. (А. Белый. Глоссалолия. Поэма б ввуке. Берлин, 1922, с. 38 и след.)
*143 Эпиграф – из поэмы Пушкина «Медный всадник».
*144 ...образок, изображавший молитву Серафима Саровского... – Серафим Саровский (1760-1833) – иеромонах Саровского монастыря (пустыни), прославился как подвижник; в начале XX в. канонизирован православной церковью. «Молитва», о которой говорится в романе, имеет название – «тысячаночная» (оно имелось в «сириновской» редакции). Это один из подвигов Серафима Саровского – в течение тысячи суток он молился на камне, в глухом лесу.
*145 ...как Дионис терзаемый... – Дионис (Вакх) (греч. миф.) – олицетворение живой силы природы, а также бог вина и виноделия. С расцветом и увяданием природы во время годичного цикла связан миф о страдании и смерти Диониса и последующих воскресений. В системе воззрений Ницше, на которого, очевидно, опирается Белый, Дионис еще и воплощение «ночной стороны души», исступления и страданий, противопоставляется Аполлону (см. примеч. на с. 368).
*146 «...назовите хоть так – псевдогаллюцинацией...» – Проблема псевдогаллюцинаций занимала в начале века большое место в трудах психиатров. По характеристике известного в то время врача В. Кандинского, есть «живые и чувственно до крайности определенные образы (т. е. конкретные чувственные представления), которые, однако, резко отличаются для самого восприемлющего сознания от истинно галлюцинаторных образов тем, что не имеют присущего последним характера объективной действительности». Они «прямо сознаются как нечто субъективное, однако вместе с тем – как нечто аномальное...» (В. X. Кандинский. О псевдогаллюцинациях. СПб., 1890, с. 25-26). Белый использовал этот термин еще во второй «симфонии», где прямо названо имя «д-ра Кандинского».
*147 – «Не путайте аллегорию с символом...» – Здесь нашли отражение споры, широко развернувшиеся в символистской среде в начале века по поводу содержания понятия «символ». Общим в этих спорах было утверждение, что символ, будучи понятием расширительно-иносказательным, имеет вместе с тем принципиальные отличия от аллегории, которая не выходит за пределы эмпирической действительности. Символические же обобщения располагаются над нею, поверх нее.
*148 «...более соответственным термином будет термин: пульсация стихийного тела. Вы так именно пережили себя...» – Белый вкладывает в уста Дудкина теософско-антропософское истолкование того состояния, которое пережил сенаторский сын, задремав над бомбой с заведенным часовым механизмом. И само это состояние изображается Белым в духе теософского учения о «телах» человёка. «Телами» здесь называется «состав человека», видимый и невидимый. Видимому «физическому» телу соответствует его «эфирный двойник» – «стихийное тело», проводник жизненных токов, насквозь проникающий «физическое» тело человека. «Сверхчувственные» переживания Николая Аполлоновича действительно находят аналогию в теософской литературе. «Под влиянием слабого здоровья или нервного возбуждения, – пишет упоминавшаяся ранее в романе Анни Безант, – эфирный двойник может быть отчасти извлечен из своего физического плотного двойника; последний впадает при этом. в полубессознательное состояние, или в транс, смотря по меньшему или большему количеству выделившейся эфирной субстанции» (А. Безант. Древняя мудрость. СПб., 1910, с. 41). Близкое описание сверхчувственных переживапий «вне тела» приводится и Р. Штейнером (см. Р. Штейнер. Путь к самопознанию человека. М., 1918).
*149 ...по Платону тот род ощущений и будет вам переживанием мига смерти; Платон, приводя заверения бакхантов... – Вероятно, Белый имеет в виду утверждение в диалоге Платона «Федон», согласно которому «сошедший в Аид непосвященным будет лежать в грязи, а очистившиеся и принявшие посвящение, отойдя в Аид, поселятся среди богов»; при этом Платон ссылается на древний орфический стих «много тирсоносцев, да мало вакхантов», ставший поговоркой (Платон. Сочинения в трех томах, т. 2. М., 1970, с. 29, 500). Тирс – увитая плющом палка с наконечником из еловой шишки; непременный атрибут вакхических празднеств. Вакханты (или бакханты) – участники празднеств в честь бога вина и виноделия Вакха (Диониса).
*150 Бородатая кариатида подъезда стремительно в стену вдавила копыто... – Белый здесь не совсем точен и употребляет слово «кариатида» в самом широком значении: он описывает мужскую фигуру, следовательно, изображен атлант, а не кариатида; к тому же у нее копыто (и «козлоподобные» ноги) – принадлежность уже и не атланта, а сатира.
*151 Зоя Флейт... – Fleisch (нем.) – мясо.
*152 «Из Шемахи, чуть не павший в резне: в Испагани...» – Шемаха – город в Азербайджане, в IX-XVI вв. был резиденцией ширваншахов. Речь идет о начальных событиях Иранской революции 1905-1911 гг., когда имели место кровавые столкновения между сторонниками конституционных реформ и феодальной реакции, в частности, в Исфахане летом 1906 г. Возможно, имеется в виду и другой эпизод Иранской революции – вооруженное восстание в Исфахане в январе 1909 г. и изгнание шахского губернатора.
*153 И слышалась смесь парфюмерии с приготовляемым зубом... – В «сириновской» редакции было (после слова «лифом»): «пощипывал в руке пульверизатор. В комнате слышалось тяжелое благовоние: смесь парфюмерии с искусственно приготовляемым зубом...»
*154 ...сложило химеру... – Химера – мифологическое чудовище с львиной головой, длинным языком, козьим туловищем и хвостом змеи.
*155 Ипостась – одно из трех воплощений божества; переносное значение – сущность чего-либо, не поддающаяся рациональному пониманию (ср. в «сириновской» редакции: «...он пытался ее поразить своим мистическим credo, утверждением, что Общественность, Революция – не категории разума, а божественные Ипостаси вселенной...»).
*156 ...давил... акцепт: младоперса... – Младоперсы – участники Иранской революции, сторонники конституционных реформ.
*157 ...окончание ве, ер мне приделали – для руссицизма... – Ер – название буквы ъ (твердый знак), которая ставилась, по дореволюционному правописанию, после твердых согласных (Шишнарфиевъ).
*158 ...для свершения некого гнусного акта... – Имеется в виду ведьмовский шабаш, о. чем свидетельствует последующая часть фразы, вычеркнутая Белым в рукописи.
*159 Требник – богослужебная книга, содержащая молитвы и священнодействия, называемые требами; вошел во всеобщее употребление в русской православной церкви.
*160 ...молитва – Василия Великого: увещательная, к бесам. – Имеется в виду «Молитва запретительная святого Василия над страждущими от демонов», помещенная в Требнике. Описывая в мемуарах лето 1911 г. (непосредственно предшествовавшее началу работы над «Петербургом»), Белый упоминает о «медиумических явлениях» в своем летнем домике и о борьбе с «феноменами»: «...мне одна богомольнейшая старушка рекомендовала почитывать в пустой комнате увещевание Василия Великого, обращенное к бесам: вот до чего уходили мы себя с Асей к концу боголюбского лета» (А. Бел ы й. Воспоминания, т. 3, ч. 2. – ГПВ, ф. 60, ед. хр. 15; Ася – А. А. Тургенева, первая жена Белого).
*161 ...помалкивает Карл Бедекер... – Бедекер Карл (1801-1859) – составитель справочников-путеводителей по странам и городам, очень популярных в Европе и в России. В обиходе эти путеводители назывались непосредственно его именем.
*162 ...Франция под шумок вооружает их, вводит в Европу... – Имеются в виду нштели африканских колоний Франции, которых буржуазное правительство вербовало в солдаты; они участвовали в первой мировой войне. Белый писал впоследствии, что он «зачитывался сведениями о формованье в Нигерии негрских полков и о передвижении на север их...». Он придал этому факту мистическое истолкование: «Подымался образ близкого будущего; об])аз Африки, которая, множеством негрских полков и диким ритмом джаз-банда должна совершить свое шествие по Европе» («Литературное наследство», т. 27-28. М., 1937, с. 424, 425).
*163 ...грозит холерина... – Холерина – устаревший термин для обозначения острого катара желудочно-кишечного тракта; также стадия холеры.
*164 Фарс – название театра Г. Г. Елисеева на Невском проспекте.
*165 ...увидел бы он себя самого, ухватившегося за живот и с надсадой горланящего в пустоту... – В описании бреда Дудкина Белый использует, объединяя, две литературные традиции. Во-первых, это традиция Гоголя, который в повести «Портрет» изобразил ночной бред художника Чарткова перед купленной картиной. На связь с Гоголем указал сам Белый: «В сцепе бреда, происходящего в комнате, озаренной лупой, на Васильевском острове, утрировано чувство Чарткова перед портретом, озаренным луной; Неуловимому слышится: «Я гублю без возврата»; в него влез персиянин, Шишнарфиев; но он – Энфраншиш, т. е. «шиш» (бредовой каламбур); а в душу Чарткова влез перс, или грек, выскочивший из портрета, чтобы губить без возврата...» (А. Белый. Мастерство Гоголя, с. 304). Во-вторых, это традиция Достоевского, его романов «Бесы» и «Братья Карамазовы». В последнем имеется аналогичная сцена: «разговор» Ивана Карамазова с чертом, причем выясняется (как впоследствии и у Белого), что черт есть плод воображения Ивана, его галлюцинация, его второе «я». Все три героя – Чартков, Иван Карамазов и Дудкин – кончают сумасшествием.
*166 Вижу я, господи, свою неправду... – Речитатив на религиозную тему (пересказ евангельского эпизода – передачи Христа Понтием Пилатом в руки сторонников старой религии, в результате чего совершилась казнь; см. Евангелие от Матфея, XXVII, 24).
*167 Аллаш – тминная водка.
*168 Шишнарфнэ символизировал анаграмму... – Анаграмма – перестановка букв в слове, в результате чего образуются новые слова (Шишнарфнэ – Енфраншиш). Здесь употреблено в более широком, символическом смысле («посетитель» Дудкина – черт, т. е. совсем другое лицо, не то, за которое ои себя выдает).
*169 ...а настигали «Я» органы... – В «сириновской» редакции было: «...а настигали и нападали на «Я» отяжелевшие телесные органы...» – та же антропософская идея о наличии в человеке различных «тел» (видимый и невидимый «состав»); см. далее: «...алкоголь и бессонница грызли телесный состав...»
*170 ...повторилися судьбы Евгения... – Евгений – герой поэмы Пушкина «Медный всадник».
*171 ...и встал – Николай; и вставали на троп – Александры... – Имеются в виду русские цари Николай I, Александр II и Александр III. Здесь Белым развивается мысль о круговом развитии исторического процесса и повторяемости явлений (см. ого статью «Круговое движение» в журн. «Труды и дни», 1912, № 4-5). Круг русской истории, начатый Петром I, замыкается, но мнению Белого, в начале XX в. (см. выше: «Медноглавый гигант прогонял чрез периоды времени вплоть до этого мига, смыкая весь круг...»).
*172 ...Александр Иваныч, Евгений, впервые тут понял: столетие пробежал понапрасну: от декабря к октябрю... – Имеется в виду бегство пушкинского Евгения от погнавшегося за ним Медного всадника. Наводнение, описанное Пушкиным в поэме, было 7 ноября 1824 г.; Белый ошибочно относит его к декабрю, продлевая путь Евгения к октябрю (1905 г.) – времени действия романа «Петербург». Календарный год («от декабря к октябрю») уподобляется им столетию.
*173 ...прохождение мытарств до трубы... – Новозаветный образ (в «сириновской» редакции было: «...до архангеловой трубы...»); труба возвещает второе пришествие Христа: «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут...» (Первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла, IV, 16). Ср. образы ангелов с трубами в Апокалипсисе (VIII-XI).
*174 Эпиграф – из стихотворения Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» (1834); первая строка изменена А. Белым.
*175 ...Гауризанкары событий... – Гауришанкар (Гауризанкар) – горная вершина в Гималаях.
*176 Wer reitet so spat durch Nacht und Wind?.. – Начальные строки баллады Гете «Лесной царь» («Erlkonig») (1782), см. следующее примеч.
*177 ...Кто скачет, кто мчится под хладною мглой... – Начальные строки баллады В. А. Жуковского «Лесной царь» (1818) (перевод одноименной баллады Гете). В руках его мертвый младенец лежал... – заключительная строка баллады.
*178 ...безобразие пепталлиона... – Пенталлион (квинталлион) – 1030 в Англии и Германии, 1018 – в Америке и Франции; пенталлион как символ вечности у Белого восходит к квадриллиону – аналогичному символу в романе Достоевского «Братья Карамазовы» (см. Часть четвертая, кн. И, гл. IX).
*179 Акафист – наименование религиозных песнопений, исполняемых молящимися стоя; оканчиваются восклицанием «радуйся...» или припевом «аллилуйя».
*180 ...а мясо – потеет; и – портится на тепле. – В «сириновской» редакции читаем «...потому что коже потеет, мясо – портится на тепле...» Потеет действительно кожа, а не мясо.
*181 Филлоксера – род паразитических насекомых, принадлежащих к семейству тлей или травяных вшей.
*182 ...он – тринадцатый знак зодиака. – Зодиак – созвездия, в которых совершаются видимые движения Солнца, Луны и главных планет. Сообразно месяцам года, Зодиак составляют двенадцать созвездий, названия и знаки которых установлены в глубокой древности. Белый возводит бюрократический знак – параграф в степень символа, влияющего на движение жизни.
*183 Коншин Алексей Владимирович – управляющий государственным банком, его подпись факсимильно воспроизводилась на русских банкнотах.
*184 ...Аквилон Аполлонович... – Аквилон – северо-восточный ветер в Италии и Греции; считался также и северным ветром.
*185 Стрелометатель, – он тщетно слал молнию... Аполлон Аполлонович – не бог Аполлон... – Одно из обличий Аполлона (греч. миф.) – бог благополучия и порядка, охранитель закона, защитник государственного благоустройства. Он возвещает людям волю Зевса, а противящихся закону наказывает стрелами, пускаемыми из серебряного лука.
*186 ...Флегетоновы волны бумаг... – Флегетон (Флегефон, греч. – «пламенный») – река в подземном царстве, катившая огненные волны (миф.).
*187 ...Какой-нибудь абитуриент. – Абитуриент – лицо, оканчивающее среднее учебное заведение. В наст, редакции фраза оказалась оборванной. В «сириновской» редакции было: «Какой-нибудь абитуриент там с глазами и усиками врывается в стародворяиский, уважаемый дом...», – намек на Дудкина, посещающего сенаторского сыпа. Подчеркнута деталь: петровские усики; упоминание о глазах связано с эпизодом встречи ехавшего в карете сенатора и Дудкина, шедшего в гости к его сыну (см. гл. I, главка «И, увидев, расширились, засветились, блеснули...»).
*188 Вячеслав Константинович – В. К. Плеве, см. примеч. на с. 364.
*189 «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...»; «На свете счастья пет, а есть покой и воля...» – Стихотворение Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит» (1834) (обе строфы приведены с неточностями).
*190 ...увенчивал великолепный дворец... и венценосца того уже нет. – Имеется в виду Михайловский дворец (затем Инженерный замок), построенный по распоряжению Павла I в 1797-1800 гг. В 1801 г. Павел I был убит в этом дворце в своей постели.
*191 ...конная статуя вычерняласъ неясно от площади... – Памятник Петру I работы К. Растрелли (см. примеч. на с. 372), поставленный по указанию Павла I. На цоколе памятника выбита падпись: «Прадеду правнук».
*192 ...менее всего сенатор подумал (над бездною часто пьем кофе со сливками)... – В «сириновской» редакции было: «...менее всего сенатор подумал о бездне (над бездною часто пьем кофе со сливками)...». Упоминание «бездны» было связано с мыслью Белого о том, что «взрыв» сбрасывает человека в бездну (символ иных миров), в которой существование человека продолжается, но в других формах.
*193 ...«Не искушай меня без нужды...» – Романс М. И. Глинки «Разуверение» (1825) на слова одноименного стихотворения Баратынского (1821). Строки этого стихотворения «Разочарованному чужды все обольщенья прежних дней...» А. Белый взял эпиграфом к сборнику своих стихотворений «Урна» (1909).
*194 ...мужчина на мертвеца сел верхом... руку простер он... – Дудкина, сидящего верхом на убитом Липпанченко, Белый уподобляет Медному всаднику; это карикатура на фальконетовский памятник и одновременно, согласно Белому, символ конца «петровского» (и петербургского) периода русской истории. Эпизод убийства Дудкиным Липпанченко имеет параллель с событием, происшедшим в действительности – убийством известного провокатора попа Гапона, которое также совершилось в дачной местности под Петербургом (в марте 1906 г.).
*195 Эпиграф – из трагедии Пушкина «Борис Годунов» (1825), – монолог Пимена.
*196 ...от Покрова... до Рождества богородицы... От Рождества богородицы – до Николы до зимнего... – праздники православной церкви, приходящиеся на 1 октября, 7-12 сентября и 6 декабря.
*197 Ватерпруф – непромокаемое женское пальто.
*198 ...слабительное – Гунияди Янос. – Гунияди Янос – целебный источник, богатый слабительными солями, на минеральных водах в Будапеште.
*199 ...как Бруно... – Джордано Бруно, итальянский философ и поэт (1548-1600), представитель европейского гуманизма. Развивал гелиоцентрическую теорию Коперника; по обвинению в ереси и свободомыслии был сожжен на костре.
*200 ...о ярких красотах альгамбрских дворцов... – Альгамбра – старинная крепость в Испании на окраине Гранады со знаменитыми дворцом и внутренними двориками с садами и фонтанами.
*201 Николай Аполлонович в голубой гондуре, в яркокрасной арабской чечье... – См. объяснения Белого: «Гопдура – цветная рубашка арабов ниже колен, на которую накидывается бурнус»; «Чечья – круглая тунисская феска с длиннейшею кпетью» (А. Белый. Путевые заметки, т. I. Сицилия и Тунис. М. – Берлин, 1922, с. 184, 185, 247). В эпилоге отразились личные впечатления Белого от заграничного путешествия на Восток в 1910-1911 гг. (Венеция – Сицилия – Тунис – Египет – Палестина). Впоследствии он рассказал о путешествии в «Путевых заметках».
*202 ...звуки «там-там»-а... – Объяснение Белого: «Там-там – особый инструмент, напоминающий барабан: в него бьют руками» (А. Белый. Путевые заметки, т. I. Сицилия и Тунис, с. 228).
*203 Захуан – горный кряж в Северной Африке.
*204 ...мыс – карфагенский – мыс в Тунисском заливе, входивший ранее в состав территории государства Карфаген (VII-II вв. до н. э.).
*205 ...Николай Аполлонович сидит – перед Сфинксом. – Сфинкс – фигура фантастического существа с головой человека на теле льва, считавшаяся у египтян воплощением духа-охранителя, оберегавшего священные места. Имеется в виду так называемый «великий сфинкс» – самый большой из сфинксов, высеченный из цельной скалы близ пирамиды Хефрена. В своих воспоминаниях Белый указывал, что в «Петербурге» «передано ощущение стоянья перед сфинксом на протяженье всего романа», и цитировал соответствующие отрывки из эпилога («Литературное наследство», т. 27-28. М., 1937, с. 434).
*206 ...занимается в Булакском музее. – Музей египетских древностей в Булаке, гавани Каира, основанный в 1858 г. В нем сосредоточено большое количество памятников, добытых при раскопках, древнейшие папирусы и т. д.
*207 «Книга Мертвых» – памятник древнеегипетской священной литературы – сборник текстов различного размера и содержащая (гимнов, заклинаний, магических формул), имевших целью обеспечить умершему благополучие в загробном мире.
*208 ...записи Манефона... – Манефон (конец IV – начало III в. до н. э.) – древнеегипетский жрец, написавший на греческом языке «Историю Египта», сохранившуюся в извлечениях.
*209 ...в двадцатом столетии он провидит – Египет... – Лейтмотив многих каирских впечатлений самого Белого, видевшего в патриархальной простоте, естественности арабского населения залог возможного возрождения к будущей жизни. «Трухлявая голова», – говорит он далее о европейской буржуазной культуре, предсказывая ей гибель в результате революционного взрыва: «будет взрыв: все – сметется». В позднейших воспоминаниях Белый повторил ту же мысль: «египетская старина прорастала в Египет двадцатого века... самые жесты, с которыми полицейские подымают белую палочку, напоминали жесты египетских человечков на фресках; так старый Египет врывался в каирский проспект из разрытой в песках усыпальницы... Старый арабский Каир не волнует; а пятитысячелетний древний Египет, кометой врезаясь в сознание, в нем оживает, как самая жгучая современность; и даже: как предстоящее будущее» («Литературное наследство», т. 27-28. М., 1937, с. 435, 428-429, 432).
*210 ...груды Гизеха протянуты грозно... – Гизех (Gizeh) – местность на левом берегу Нила, близ Каира, известная полем пирамид (здесь стоят пирамиды Хеопса, Хефрена и Менкара, несколько меньших и великий сфинкс). Поле пирамид и восхождение на пирамиду Хеопса описаны Белым в путевых заметках «Египет» («Современник», 1912, июнь).
*211 ...«О письме Дауфсехруты». – Речь идет о памятнике древнеегипетской литературы эпохи Среднего Царства (XX-XVIII вв. до н. э.) – «Поучении Хетти, сына Дуауфа, своему сыну Пепи» (точнее: «Поучение Ахтойа, Дуауфова сына, его сыну Пиопи»), в котором, в сопоставлении с другими, восхваляется профессия писца. Дауфсехрута (правильнее Дуауф-се-Ахтой) – неверная транслитерация собственных имен' в коптской огласовке, обусловленная уровнем развития современной Белому египтологии.
*212 Назарет – город в южной Галилее, где, согласно евангельскому преданию, протекло детство и отрочество Иисуса Христа; известен такими христианскими святилищами, как храм Благовещения, место мастерской св. Иосифа и др.
*213 ...Николай Аполлонович продолжал еще днями расхаживать по полю, по лугам, по лесам... – В этих финальных строках, посвященных судьбе главного героя романа, Белый возвращается к жизненно-философским выводам, сформулированным еще г. романе «Серебряный голубь» – о неизбежном возвращении блудных сыновей России, воспитанных на «западных», «чужих словах», на «луговую, родную стезю»: «Не пройдет году, как пойдут бродить по полям, по лесам, по звериным тропам, чтобы умереть в травой поросшей канаве. Будут, будут числом возрастать убегающие в поля!» (А. Белый. Серебряный голубь. М., 1910, с. 229).
*214 ...читал он философа Сковороду. – Сковорода Григорий Саввич (1722-1794) – украинский философ и поэт. Упоминание имени Г. Сковороды в эпилоге романа имеет символический характер. Б. В. Михайловский пишет в статье о «Петербурге»: «Этот намек весьма выразителен. Украинский философ-просветитель и поэт XVIII в. Григорий Сковорода, тяготевший к материализму, в то же время признавал двоемирие, причем духовное начало считал божественной сущностью, а путь к идеальному обществу (социалистического типа) видел не в борьбе с угнетателями, а в моральном самосовершенствовании личности, ее самопознании и т. п.». (Б. В. Михайловский. Избранные статьи о литературе и искусстве. М., 1969, с. 455). Подробнее об отношении Белого к философии и личности Г. Сковороды см.: А. В. Лавров. «Андрей Белый и Григорий Сковорода». – Журн. «Studia Slavica Hungaria», Budapest, 1975, т. XXI, с. 395-404.