Антимиры
(Избранная лирика)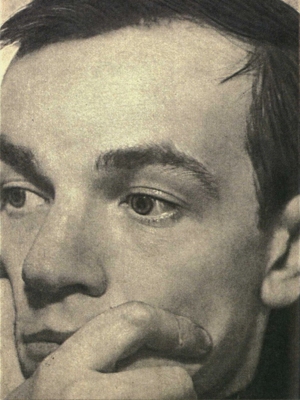
Содержание
- ПОЭТЫ И АЭРОПОРТЫ
- Маяковский в Париже
- Возвращение в Сигулду
- "Сирень похожа на Париж..."
- Париж без рифм
- Олененок
- Римские праздники
- Нидская биостанция
- Монолог Мэрлин Монро
- Ночь
- Муромский сруб
- Баллада-диссертация
- Мотогонки по вертикальной стене
- Лирическая религия
- Латышский набросок
- "Как всегда, перед дорогой..."
- Марше О Пюс, Парижская толкучка древностей
- Старухи казино
- Ирена
- "Шарф мой, Париж мой..."
- Тишины!
- Бьют женщину
- "Живет у нас сосед Букашкин..."
- Ночной аэропорт в Нью-Йорке
- Итальянский гараж
- Нью-йоркская птица
- Стриптиз
- Бьет женщина
- "Пел Твардовский в ночной Флоренции..."
- Длиноного
- Песня Офелии
- Флорентийские факелы
- Прощание с Политехническим
- СНЕГ ПАХНЕТ АНТОНОВКОЙ
- Гойя
- Новогоднее письмо в Варшаву
- На плотах
- Сибирские бани
- Тайга
- Гитара
- "Кто мы - фишки или великие?.."
- Туманная улица
- Параболическая баллада
- Ода сплетникам
- "Отзовись!.."
- Осень
- Первый лед
- "Лежат велосипеды..."
- "Сидишь беременная, бледная..."
- Кроны и корни
- Загорская лавра
- Баллада работы
- Свадьба
- Елка
- Репортаж с открытия ГЭС
- Тбилисские базары
- Горный родничок
- Уроки польского
- Торгуют арбузами
- Сирень "Москва – Варшава"
- Монолог рыбака
- Монолог битника
- "В Америке, пропахшей мраком..."
- Охота на зайца
- Секвойя Ленина
- Грузинские березы
- "Я в Шушенском..."
- ОСЕНЕБРИ
- Лонжюмо
- Мастера
ПОЭТЫ И АЭРОПОРТЫ
Маяковский в Париже
Уличному художнику
Лили Брик на мосту лежит,
разутюженная машинами.
Под подошвами, под резинами,
как монетка зрачок блестит!
Пешеходы бросают мзду.
И как рана,
Маяковский,
щемяще ранний,
как игральная карта в рамке,
намалеван на том мосту!
Каково Вам, поэт, с любимой?!
Это надо ж – рвануть судьбой,
чтобы ликом,
как Хиросимой,
отпечататься в мостовой!
По груди Вашей толпы торопятся,
Сена плещется под спиной.
И, как божья коровка, автобусик
мчит, щекочущий и смешной.
Как волнение Вас охватывает!..
Мост парит,
ночью в поры свои асфальтовые,
как сирень,
впитавши Париж.
Гений. Мот. Футурист с морковкой.
Льнул к мостам. Был посол Земли...
Никто не пришел
на Вашу выставку,
Маяковский.
Мы бы – пришли.
Вы бы что-нибудь почитали,
как фатально Вас не хватает!
О, свинцовою пломбочкой ночью
опечатанные уста.
И не флейта Ваш позвоночник –
алюминиевый лет моста!
Маяковский, Вы схожи с мостом.
Надо временем,
как гимнаст,
башмаками касаетесь РОСТА,
а ладонями –
нас.
Ваша площадь мосту подобна,
как машины из-под моста –
Маяковскому под ноги
Маяковская Москва!
Маяковским громит подонков
Маяковская чистота!
Вам шумят стадионов тысячи.
Как Вам думается?
Как дышится,
Маяковский, товарищ Мост?..
Мост. Париж. Ожидаем звезд.
Притаился закат внизу,
полоснувши по небосводу
красным следом
от самолета,
точно бритвою по лицу!
1963
Возвращение в Сигулду
Отшельничаю, берложу,
отлеживаюсь в березах,
лужаечный, можжевельничий,
отшельничаю,
отшельничаем, нас трое,
наш третий всегда на стреме,
позвякивает ошейничком,
отшельничаем,
мы новые, мы знакомимся,
а те, что мы были прежде,
как наши пустые одежды,
валяются на подоконнике,
как странны нам те придурки,
далекие, как при Рюрике
(дрались, мельтешили, дулись),
какая все это дурость!
А домик наш в три окошечка
сквозь холм в лесовых массивах
просвечивеет, как косточка
просвечивает сквозь сливу,
мы тоже в леса обмакнуты,
мы зерна в зеленой мякоти,
притягиваем, как соки,
все мысли земли и шорохи,
как мелко мы жили, ложно,
турбазники сквозь кустарник
пройдут, постоят, как лоси,
растают,
умаялась бегать по лесу,
вздремнула, ко мне припавши,
и тенью мне в кожу пористую
впиталась, как в промокашку,
я весь тобою пропитан,
лесами твоими, тропинками,
читаю твое лицо,
как легкое озерцо,
как ты изменилась, милая,
как ссадина, след от свитера,
но снова как разминированная –
спасенная? спасительная!
ты младше меня? Старше!
на липы, глаза застлавшие,
наука твоя вековая
ауканья, кукованья,
как утра хрустальны летние,
как чисто у речки бисерной
дочурка твоя трехлетняя
писает по биссектриске!
«мой милый, теперь не денешься,
ни к другу и ни к врагу,
тебя за щекой, как денежку,
серебряно сберегу»,
я думал, мне не вернуться,
гроза прошла, не волнуйся,
леса твои островные
печаль мою растворили,
в нас просеки растворяются,
как ночь растворяет день,
как окна в сад растворяются
и всасывают сирень,
и это круговращение
щемяще, как возвращенье...
Куда б мы теперь ни выбыли,
с просвечивающих холмов
нам вслед
улетает
Сигулда,
как связка
зеленых
шаров!
* * *
Сирень похожа на Париж,
горящий осами окошек.
Ты кисть особняков продрогших
серебряную шевелишь.
Гудя нависшими бровями,
страшон от счастья и тоски,
Париж,
как пчелы,
собираю
в мои подглазные мешки.
Париж без рифм
Париж скребут. Париж парадят.
Бьют пескоструйным аппаратом.
Матрон эпохи рококо
продраивает душ Шарко!
И я изрек: «Как это нужно –
содрать с предметов слой наружный,
увидеть мир без оболочек,
порочных схем и стен барочных!..»
Я был пророчески смешон,
но наш патрон, мадам Ланшон,
сказала: «О-ля-ля, мой друг!..»
И вдруг –
город преобразился,
стены исчезли, вернее, стали прозрачными,
над улицами, как связки цветных шаров, висели
комнаты,
каждая освещалась по-разному,
внутри, как виноградные косточки,
горели фигуры и кровати,
вещи сбросили панцири, обложки, оболочки,
над столом
коричнево изгибался чай, сохраняя форму чайника,
и так же, сохраняя форму водопроводной трубы,
по потолку бежала круглая серебряная вода,
в соборе Парижской богоматери шла месса,
как сквозь аквариум,
просвечивали люстры и красные кардиналы,
архитектура испарилась,
и только круглый витраж розетки почему-то парил
над площадью, как знак:
§ «Проезд запрещен»,
над Лувром из постаментов, как 16 матрасных пружин,
дрожали каркасы статуй,
пружины были во всем,
все тикало,
о Париж,
мир паутинок, антенн и оголенных проволочек,
как ты дрожишь,
как тикаешь мотором гоночным,
о сердце под лиловой пленочкой,
Париж
(на месте грудного кармашка, вертикальная, как рыбка,
плыла бритва фирмы «Жиллет»)!
Париж, как ты раним, Париж,
под скорлупою ироничности,
под откровенностью, граничащей
с незащищенностью.
Париж,
в Париже вы одни всегда,
хоть никогда не в одиночестве,
и в смехе грусть,
как в вишне косточка,
Париж – горящая вода,
Париж,
как ты наоборотен,
как бел твой Булонский лес,
он юн, как купальщицы,
бежали розовые собаки,
они смущенно обнюхивались,
они могли перелиться одна в другую, как шарики ртути,
и некто, голый, как змея,
промолвил: «Чернобурка я»,
шли люди,
на месте отвинченных черепов,
как птицы в проволочных
клетках,
свистали мысли,
монахиню смущали мохнатые мужские видения,
президент мужского клуба страшился разоблачений
(его тайная связь с женой раскрыта,
он опозорен),
над полисменом ножки реяли,
как нимб, в серебряной тарелке
плыл шницель над певцом мансард,
в башке ОАСа оголтелой
дымился Сартр на сковородке,
а Сартр,
наш милый Сартр,
задумчив, как кузнечик кроткий,
жевал травиночку коктейля,
всех этих таинств
мудрый дух
в соломинку,
как стеклодув,
он выдул эти фонари,
весь полый город изнутри,
и ратуши и бюшери,
как радушные пузыри!
Я тормошу его:
«Мой Сартр,
мой сад, от зим не застекленный,
зачем с такой незащищенностью
шары мгновенные
летят?
Как страшно все обнажено,
на волоске от ссадин страшных,
их даже воздух жжет, как рашпиль,
мой Сартр!
Вдруг все обречено?!»
Молчит кузнечник на листке
с безумной мукой на лице.
Било три...
Мы с Ольгой сидели в «Обалделой лошади»,
в зубах джазиста изгибался звук в форме саксофона,
женщина усмехнулась.
«Стриптиз так стриптиз», –
сказала женщина,
и она стала сдирать с себя не платье, нет, –
кожу! –
как снимают чулки или трикотажные тренировочные
костюмы.
– О! о! –
последнее, что я помню, это белки,
бесстрастно-белые, как изоляторы,
на страшном,
орущем, огненном лице...
«...Мой друг, растает ваш гляссе...»
Париж. Друзья. Сомкнулись стены.
А за окном летят в веках
мотоциклисты
в белых шлемах,
как дьяволы в ночных горшках.
1963
Олененок
I
«Ольга, опомнитесь! Что с вами, Ольга?..»
Это блуждает в крови, как иголка...
Ну почему – призадумаюсь только –
передо мною судьба твоя, Ольга?
Полуфранцуженка, полурусская,
с джазом простуженным туфелькой хрусткая,
как несуразно в парижских альковах –
«Ольга» –
как мокрая ветка ольховая!
Что натворили когда-то родители!
В разных глазах породнили пронзительно
смутный витраж нотр-дамской розетки
с нашим Блаженным в разводах разэтаких.
Бродят, как город разора и оргий,
Ольга французская с русскою Ольгой.
II
Что тебе снится, русская Оля?
Около озера рощица, что ли...
Помню, ведро по ноге холодило –
хоть никогда в тех краях не бродила.
Может, в крови моей гены горят?
Некатолический вижу обряд,
а за калиточкой росно и колко...
Как вам живется, французская Ольга?
«Как? О-ля-ля! Мой Рено – как игрушка,
плачу по-русски, смеюсь по-французски...
Я парижанка. Ночами люблю
слушать, щекою прижавшись к рулю.
Но почему посреди буги-вуги
слышатся вьюги?
III
Дуги соборов манят, как магниты,
о помогите,
милый мой муж простынею накрыт,
как за граничной стеною храпит».
Руки лежат как в других государствах.
Правая бренди берет как лекарство.
Левая вправлена в псковский браслет,
а между ними –
тысячи лет.
Горе застыло в зрачках удлиненных,
о олененок,
вмерзший ногами на двух нелюдимых
и разъезжающихся
льдинах!
IV
Мир расколола тревожная трещина.
Как разрушительно врезались в женщину
войны холодные,
войны глобальные,
фраки министров, схожих с гробами,
мир разрывается, мир задыхается
в мирных Майданеках,
в новых Дахау!
«Остановитесь!» – взывают осколки
зеленоглазого города
Ольги.
V
Я эту «Ольгу» читал на эстраде.
Утром звонок: «Экскюзе, бога ради!
Я полурусская... с именем Ольга...
Школьница... рыженькая вот только...»
Ольга, опомнитесь! Что с вами, Ольга?!.
Римские праздники
В Риме есть обычай в Новый год
выбрасывать на улицу старые вещи.
выбрасывать на улицу старые вещи.
Рим гремит, как аварийный
отцепившийся вагон.
А над Римом, а над Римом
Новый год, Новый год!
Бомбой ахают бутылки
из окон,
из окон,
ну, а этот забулдыга
ванну выпер на балкон.
А над площадью Испании,
как летающий тарел,
вылетает муж из спальни –
устарел, устарел!
В ресторане ловят голого.
Он гласит: «Долой
невежд!
Не желаю прошлогоднего.
Я хочу иных одежд».
Жизнь меняет оперенье.
И летят, как лист в леса,
телеграммы,
объявления,
милых женщин адреса.
Милый город, мы потонем
в превращениях твоих,
шкурой сброшенной питона
светят древние бетоны.
Сколько раз ты сбросил их?
Но опять тесны спидометры
твоим аховым питомицам.
Что еще ты натворишь?!
Человечество хохочет,
расставаясь со старьем.
Что-то в нас смениться хочет?
Мы, как Время, настаем.
Мы стоим, забыв делишки,
будущим поглощены.
Что в нас плачет, отделившись?
Оленихи, отелившись,
так добры и смущены.
Может, будет год нелегким?
Будет в нем погод нелетных?
Не грусти – не пропадем.
Образуется потом.
Мы летим, как с веток яблоки.
Опротивела грызня.
Но я затем живу хотя бы,
чтоб средь ветреного дня,
детектив глотнувши залпом,
в зимнем доме косолапом
кто-то скажет, что озябла
без меня,
без меня...
И летит мирами где-то
в мрак бесстрастный, как крупье,
наша белая планета,
как цыпленок в скорлупе.
Вот она скорлупку чокнет.
Кем-то станет – свистуном?
Или черной, как грачонок,
сбитый атомным огнем?
Мне бы только этим милым
не случилось непогод...
А над Римом, а над миром –
Новый год, Новый год...
...Мандарины, шуры-муры,
и сквозь юбки до утра
лампами
сквозь абажуры
светят женские тела.
1 января 1963 г.
Нидская биостанция
Жизнь моя кочевая
стала моей планидой...
Птицы кричат над Нидой.
Станция кольцевания.
Стонет в сетях капроновы:-
в облаке пуха, крика
крыльями трехметровыми
узкая журавлиха!
Вспыхивает разгневанной
пленницею, царевной,
чуткою и жемчужной,
дышащею кольчужкой.
К ней подбегут биологи;
«Цаце надеть брелоки!»
Бережно, не калеча,
цап! – и вонзят колечко.
Вот она в небе плещется,
послеоперационная,
вольная, то есть пленная,
целая, но кольцованная,
над анкарами, плевнами,
лунатиками в кальсонах –
вольная, то есть пленная,
чистая, но кольцованная,
жалуется над безднами
участь ее двойная:
на небесах – земная,
а на земле – небесная,
над пацанами, ратушами,
над циферблатом Цюриха,
если, конечно, раньше
пуля не раскольцует,
как бы ты ни металась,
впилась браслетка змейкой,
привкус того металла
песни твои изменит –
с неразличимой нитью,
будто бы змей ребячий,
будешь кричать над Нидой,
пристальной и рыбачьей.
Монолог Мэрлин Монро
Я Мэрлин, Мэрлин.
Я героиня
самоубийства и героина.
Кому горят мои георгины?
С кем телефоны заговорили?
Кто в костюмерной скрипит лосиной?
Невыносимо,
невыносимо, что не влюбиться,
невыносимо без рощ осиновых,
невыносимо самоубийство,
но жить гораздо
невыносимей!
Продажи. Рожи. Шеф ржет, как мерян.
Я помню Мэрлин.
Ее глядели автомобили.
На стометровом киноэкране
в библейском небе,
меж звезд обильных,
над степью с крохотными рекламами
дышала Мэрлин,
ее любили...
Изнемогают, хотят машины.
Невыносимо,
невыносимо
лицом в сиденьях, пропахших псиной!
Невыносимо,
когда насильно,
а добровольно – невыносимей!
Невыносимо прожить не думая,
невыносимо – углубиться.
Где наши планы? Нас будто сдунули,
существованье – самоубийство,
самоубийство – бороться с дрянью,
самоубийство – мириться с ними,
невыносимо, когда бездарен,
когда талантлив – невыносимей,
мы убиваем себя карьерой,
деньгами, ножками загорелыми,
ведь нам, актерам,
жить не с потомками,
а режиссеры – одни подонки,
мы наших милых в объятьях душим,
но отпечатываются подушки
на юных лицах, как след от шины,
невыносимо,
ах, мамы, мамы, зачем рождают?
Ведь знала мама – меня раздавят,
о кинозвездвое оледененье,
нам невозможно уединенье,
в метро, в троллейбусе,
в магазине –
«Приветны, вот вы!» – глядят разини,
невыносимо, когда раздеты
во всех афишах, во всех газетах,
забыв, что сердце есть посередке,
в тебя завертывают селедки,
глаза измяты,
лицо разорвано.
(Как страшно вспомнить во
«Франс-Обзервере»
свой снимок с мордой
самоуверенной
на обороте у мертвой Мэрлин!)
Орет продюсер, пирог уписывая:
«Вы просто дуся,
ваш лоб – как бисерный!»
А вам известно, чем пахнет бисер?!
Самоубийством!
Самоубийцы – мотоциклисты,
самоубийцы спешат упиться,
от вспышек блицев бледны министры –
самоубийцы,
самоубийцы,
идет всемирная Хиросима,
невыносимо,
невыносимо все ждать,
чтоб грянуло,
а главное –
необъяснимо невыносимо,
ну, просто руки разят бензином!
Невыносимо
горят на синем
твои прощальные апельсины...
Я – баба слабая. Я разве слажу?
Уж лучше –
сразу!
1963
Ночь
Сколько звезд!
Как микробов
в воздухе...
1963
Муромский сруб
Деревянный сруб,
деревянный Друг,
пальцы свел в кулак
деревянных рук,
как и я, глядит Вселенная во мрак,
подбородок положивши на кулак,
предок, сруб мой, ну о чем твоя печаль
над скамейкою замшелой, как пищаль?
Кто наврал, что я любовь твою продал
по электроэлегантным городам?
Полежим. Поразмышляем. Помолчим.
Плакать – дело, недостойное мужчин.
Сколько раз мои печали отвели
эти пальцы деревянные твои...
Баллада-диссертация
Нос растет в течение всей жизни.
Из научных источников
Из научных источников
Вчера мой доктор произнес:
«Талант в вас, может, и возможен,
но Ваш паяльник обморожен,
не суйтесь из дому в мороз».
О нос!..
Неотвратимы, как часы,
У нас, у вас, у капуцинов
по всем
законам
Медицины
торжественно растут носы!
Они растут среди ночи
у всех сограждан знаменитых,
у сторожей,
у замминистров,
сопя бессонно, как сычи,
они прохладны и косы,
их бьют боксеры,
щемят двери,
но в скважины, подобно дрели,
соседок ввинчены носы!
(Их роль с мистической тревогой
интуитивно чуял Гоголь.)
Мой друг Букашкин пьяны были,
им снился сон:
подобно шпилю,
сбивая люстры и тазы,
пронзая потолки разбуженные,
над ним
рос
нос,
как чеки в булочной,
нанизывая этажи!
«К чему б?» – гадал он поутру.
Сказал я: «К Страшному суду.
К ревизии кредитных дел!»
30-го Букашкин сел.
О, вечный двигатель носов!
Носы длиннее – жизнь короче.
На бледных лицах среди ночи,
как коршун или же насос,
нас всех высасывает нос,
и говорят, у эскимосов
есть поцелуй посредством носа...
Но это нам не привилось.
1963
Мотогонки но вертикальной стене
Н. Андросовой
Завораживая, манежа,
Свищет женщина по манежу!
Краги –
красные, как клешни.
Губы крашеные – грешны.
Мчит торпедой горизонтальною,
Хризантему заткнув за талию!
Ангел атомный, амазонка!
Щеки вдавлены, как воронка.
Мотоцикл над головой
Электрическою пилой.
Надоело жить вертикально.
Ах, дикарочка, дочь Икара...
Обыватели и весталки
Вертикальны, как «ваньки-встаньки».
В этой, взвившейся над зонтами,
Меж оваций, афиш, обид,
Сущность женщины
горизонтальная
Мне мерещится и летит!
Ах, как кружит ее орбита!
Ах, как слезы к белкам прибиты!
И тиранит ее Чингисхан –
Замдиректора Сингичанц...
Сингичанц: «Ну, а с ней не мука?
Тоже трюк – по стене, как муха...
А вчера камеру проколола... Интриги...
Пойду напишу
по инстанции...
И царапается, как конокрадка».
Я к ней вламываюсь в антракте.
«Научи, говорю, горизонту...»
А она молчит, амазонка.
А она головой качает.
А ее еще трек качает.
А глаза полны такой –
горизонтальною
тоской!
1961
Лирическая религия
Несутся энтузиасты
на горе мальтузианству.
Человечество
увеличивается
в прогрессии
лирической
(А Сигулда вся в сирени,
как в зеркала уроненная,
зеленая на серебряном,
серебряная на зеленом.)
В орешнях, на лодках, на склонах,
смущающаяся, грешная,
выводит свои законы
лирическая прогрессия!
Приветик, Трофим Денисычи
и мудрые Энгельгардты.
2 = 1 > 3 000 000 000!
Рушатся Римы, Греции.
Для пигалиц обнаглевших
профессора, как лешие,
вызубривают прогрессию.
Ты спросишь: «А правы ль данные,
что сердце в момент свидания
сдвигает 4 вагона?»
Законно! Законно! Законно!
Танцуй, моя академик!
Хохочет до понедельника
на физике погоревшая
лирическая прогрессия!
(Ты младше меня? Старше!
На липы, глаза застлавшие...
Наука твоя вековая
ауканья, кукованья.)
Грозит мировым реваншем
в сиренях повызревавшая –
кого по щеке огревшая? -
лирическая агрессия!
1963
Латышский набросок
Уходят парни от невест.
Невесть зачем из отчих мест
Три дурака бегут на Запад.
Их кто-то выдает. Их цапают.
41-й год. Привет!
«Суд идет!» Десять лет.
«Возлюбленный, когда ж вернешься?!
четыре тыщи дней, как ноша,
четыре тысячи ночей
не побывала я ничьей,
соседским детям десять лет,
прошла война, тебя все нет,
четыре тыщи солнц скатилось,
как ты там мучаешься, милый,
живой ли ты и невредимый?
Предела нету для любимой –
ополоумевши любя,
я, Рута, выдала тебя –
из тюрьм приходят иногда,
из заграницы – никогда...»
...Он бьет ее, с утра напившись.
Свистит его костыль над пирсом.
О, вопли женщины седой:
«Любимый мой! Любимый мой!»
1963
* * *
Как всегда, перед дорогой
говорится не о том.
Мы бравируем с тревогой,
нам все это нипочем.
...В темноте лицо и брюки,
только тенниска бела,
ты невидимые руки
к самолету подняла.
Так светяще, так внимательно
вверх протянута, вопя,
как Собор
Парижской
Богоматери –
безрукавочка твоя!
Марше О Пюс, Парижская толкучка древностей
I
Продай меня, Марше О Пюс,
упьюсь
этой грустной барахолкой,
смесью блюза с баркаролой,
самоваров, люстр, свечей,
воет зоопарк вещей
по умчавшимся векам –
как слонихи по лесам!..
перстни, красные от ржави,
чьи вы перси отражали?
как скорлупка, сброшен панцирь.
чей картуш?
вещи – отпечатки пальцев,
вещи – отпечатки душ,
черепки лепных мустангов,
храм хламья, Марше О Пюс,
мусор, музыкою ставший!
моя лучшая из муз!
расшатавшийся диван,
куда девах своих девал?
почем века в часах песочных?
чья замша стерлась от пощечин?
почем любовь, почем поэзия,
утилитарно-бесполезная?
почем метания и робость?
к чему метафоры для роботов?
продай меня, Марше О Пюс,
архаичным становлюсь:
устарел, как Робот-6,
когда Робот-8 есть.
II
Печаль моя, Марше О Пюс,
как плющ,
вьется плесень по кирасам,
гвоздь сквозь плюш повылезал –
как в скульптурной у Пикассо –
железяк,
железяк!
помню, он в штанах расшитых
вещи связывал в века,
глаз вращался, как подшипник,
у виска,
у виска!
(он – испанец, весь как рана,
к нему раз пришли от Франко,
он сказал: «Портрет? Могу!
пусть пришлет свою башку!»)
я читал ему, подрагивая,
эхо ухает,
как хор,
персонажи из подрамников
вылазят в коридор,
век пещерный, век атомный,
душ разрезы анатомные,
вертикальны и косы,
как песочные часы,
снег заносит апельсины,
пляж, фигурки на горах,
мы – песчинки,
мы печальны, как песчинки,
в этих дьявольских часах,
не пищите?..
мы в истории
лишь на несколько минут,
мы – песчинки?
но которые
жерла пушечные
рвут!
III
Марше О Пюс, Марше О Пюс,
никого не дозовусь.
пустынны вещи и страшны,
как после атомной войны
я вещь твоя, XX век,
пусть скоро скажут мне: «Вы ветх»,
архангел
из болтов и гаек
мне нежно гаркнет: «Вы архаик»,
тогда, О Пюс, к себе пусти меня,
приткнусь немодным пиджачком...
Я архаичен,
как в пустыне
раскопанный ракетодром!
Старухи казино
Старухи,
старухи –
стоухи,
сторуки,
мудры
по-паучьи,
сосут авторучки,
старухи в сторонке,
как мухи,
стооки,
их щеки из теми
горящи и сухи,
колдуют в «системах»,
строчат закорюки,
волнуются бестии,
спрут электрический...
О оргии девственниц!
Секс платонический!
В них чувственность ноет,
как ноги в калеке...
Старухи
сверхзнойно
рубают в рулетку!
Их общий любовник
разлегся, разбойник.
Вокруг, как хоругви,
робеют старухи.
Ах, как беззаветно
в них светятся муки!..
Свои здесь
Джульетты,
мадонны и шлюхи,
как рыжая страстна!
А та – ледяная,
а в шляпке из страуса
крутит динаму,
трепещет вульгарно,
ревнует к подруге.
Потухли вулканы,
шуруйте, старухи!..
...А с краю, моргая,
сияет бабуся:
она промотала
невесткины
бусы.
Ирена
Ирена проводит меня за кулисы.
Ирена ноздрями дрожит закуривши.
В плечах отражаются лампы, как ложки.
Он потен, Ирена.
Он дышит, как лошадь.
Здесь кремы и пудры – как кнопки от пульта.
Звезда кабаре,
современная ультро,
упарится парень (жмет туфелька, стерва!),
а дело есть дело,
и тело есть тело!
Ирена мозоль деловито потискивает...
...Притих ресторан, как капелла Сикстинская.
Тревожно.
Лакеи разносят смиренно
меню как Евангелие от Ирены:
«Богиней помад, превращений, измены,
прекрасный Ирена,
на наглых ногах, усмехаясь презренно,
сбегает с арены!
Он – зеркало времени, лжив, как сирена,
любуйтесь Иреной!
Мужчины, вы – бабы, они ж – бизнесмены,
пугайтесь Ирены?
Финал мирозданья, не снившийся Брему,
вихляет коленями...
о две параллели, назло теореме
скрещенных в Ирене!
«Ирена, ку-ку!» Кидайте же тугрики
от Сены до Рейна
под бритые икры в серебряной туфельке!
Молитесь Ирене!»
Куря за кулисой, с цветными ресницами
глядел в меня парень пустыми глазницами.
И, как микеланджеловские скрижали,
на потных ногах полотенца лежали.
* * *
Шарф мой, Париж мой,
серебряный с вишней,
ну, натворивший!
Шарф мой – Сена волосяная,
как ворсисто огней сиянье,
шарф мой Булонский, туман мой мохнатый,
фары шоферов дуют в Монако!
Что ты пронзительно шепчешь, горячий,
шарф, как транзистор, шкалою горящий?
Шарф мой, Париж мой непоправимый,
с шалой кровинкой?
Та продавщица была сероглаза,
как примеряла она первоклассно,
лаковым пальчиком с отсветом улиц
нежно артерии сонной коснулась...
В электрическом шарфе хожу,
душный город на шее ношу.
Я к стене его прикноплю,
как окно в Лонжюмо и Сен-Клу.
р дом с ним загорятся мазки
талой Москвы,
милой Москвы...
Тишины!
Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины...
чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни,
тишины...
звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание –
молчаливо.
Тишины.
Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее – неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.
Кожа тоже ведь человек,
с впечатленьями, голосами.
Для нее музыкально касанье,
как для слуха – ноет соловей.
Как живется вам там, болтуны,
чай, опять кулуарный авралец?
горлопаны не наорались?
Тишины...
Мы в другое погружены.
В ход природ неисповедимый.
И по едкому запаху дыма
мы поймем, что идут чабаны.
Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени тихи.
И из псов, как из зажигалок,
Светят тихие языки.
1964
Бьют женщину
Бьют женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок,
как белые прожектора!
Бьют женщину. Так бьют рабынь.
Она в заплаканной красе
срывает ручку как рубильник,
выбрасываясь
на шоссе!
И взвизгивали тормоза.
К ней подбегали тормоша.
И волочили и лупили
лицом по снегу и крапиве...
Подонок, как он бил подробно,
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!
Вонзался в дышащие ребра
ботинок узкий, как утюг.
О, упоенье оккупанта,
изыски деревенщины...
Сминая лунную купаву,
бьют женщину.
Бьют женщину. Веками бьют,
бьют юность, бьет торжественно
набата свадебного гуд,
бьют женщину.
А от жаровен на щеках
горящие затрещины?
Мещанство, быт – да еще как! –
бьют женщину.
Но чист ее высокий свет,
отважный и божественный.
Религий – нет,
знамений - нет.
Есть
Женщина!..
...Она как озеро лежала
стояли очи как вода
и не ему принадлежала
как просека или звезда
и звезды по небу стучали
как дождь о черное стекло
и скатываясь
остужали
ее горячее чело.
1960
Антимиры
Живет у нас сосед Букашкин,
В кальсонах цвета промокашки.
Но, как воздушные шары,
Над ним горят
Антимиры!
И в них магический, как демон,
Вселенной правит, возлежит
Антибукашкин, академик,
И щупает Лоллобриджид.
Но грезятся Антибукашкину
Виденья цвета промокашки.
Да здравствуют Антимиры!
Фантасты – посреди муры.
Без глупых не было бы умных,
Оазисов – без Каракумов.
Нет женщин –
есть антимужчнны.
В лесах ревут антимашины.
Есть соль земли. Есть сор земли.
Но сохнет сокол без змеи.
Люблю я критиков моих.
На шее одного из них,
Благоуханна и гола,
Сияет антиголова!..
...Я сплю с окошками открытыми,
А где-то свищет звездопад,
И небоскребы
сталактитами
На брюхе глобуса висят.
И подо мной
вниз головой,
Вонзившись вилкой в шар земной,
Беспечный милый мотылек,
Живешь ты,
мой антимирок!
Зачем среди ночной поры
Встречаются антимиры?
Зачем они вдвоем сидят
И в телевизоры глядят?
Им не понять и пары фраз.
Их первый раз – последний раз!
Сидят, забывши про бонтон,
Ведь будут мучиться потом!
И уши красные горят,
Как будто бабочки сидят...
...Знакомый лектор мне вчера
Сказал: «Антимиры? Мура!»
Я сплю, ворочаюсь спросонок:
Наверно, прав научный хмырь...
Мой кот, как радиоприемник,
Зеленым глазом ловит мяр.
1961
Ночной аэропорт в Нью-Йорке
Автопортрет мой, реторта неона, апостол
небесных ворот –
Аэропорт!
Брезжат дюралевые витражи,
Точно рентгеновский снимок души.
Как это страшно, когда в тебе небо стоит
В тлеющих трассах
Необыкновенных столиц,
Каждые сутки
тебя наполняют, как шлюз,
Звездные судьбы
Грузчиков, шлюх.
В баре, как ангелы, гаснут твои
алкоголики
Ты им глаголишь!
Ты их, прибитых,
возвышаешь!
Ты им «Прибытье»
возвещаешь!
* * *
Ждут кавалеров, судеб, чемоданов, чудес...
Пять «Каравелл»
ослепительно
сядут с небес!
Пять полуночниц шасси выпускают устало.
Где же шестая?
Видно, допрыгалась –
дрянь, аистенок, звезда!..
Электроплитками
пляшут под ней города.
Где она реет,
стонет, дурит?
И сигареткой
в тумане горит?
Она прогноз не понимает.
Ее земля не принимает.
* * *
Худы прогнозы. Ж ты в ожидании бури,
Как в партизаны, уходишь в свои вестибюли
Мощное око взирает в иные мира.
Мойщики окон
слезят тебя, как мошкара,
Звездный десантник, хрустальное чудище,
Сладко, досадно быть сыном будущего,
Где нет дураков
и вокзалов-тортов –
Одни поэты и аэропорты!
Стонет в аквариумном стекле
Небо,
приваренное к земле.
* * *
Аэропорт – озона и солнца
Аккредитованное посольство!
Сто поколений
не смели такого коснуться
Преодоленья
несущих конструкций.
Вместо каменных истуканов
Стынет стакан синевы –
без стакана.
Рядом с кассами-теремами
Он, точно газ,
антиматериален!
Бруклин – дурак, твердокаменный черт.
Памятник эры –
Аэропорт.
1961
Итальянский гараж
Б.Ахмадулиной
Пол – мозаика
как карась.
Спит в палаццо
ночной гараж.
Мотоциклы как сарацины
или спящие саранчихи.
Не Паоло и не Джульетты –
дышат потные «шевролеты».
Как механики, фрески Джотто
отражаются в их капотах.
Реют призраки войн и краж.
Что вам снится,
ночной гараж?
Алебарды?
или тираны?
или бабы
из ресторана?..
Лишь один мотоцикл притих –
самый алый из молодых.
Что он бодрствует? Завтра – святки,
Завтра он разобьется всмятку?
Апельсины, аплодисменты...
Расшибающиеся –
бессмертны!
Мы родились – не выживать,
а спидометры выжимать?..
Алый, конченый, жарь! Жарь!
Только гонщицу очень жаль...
Нью-йоркская птица
На окно ко мне садится
в лунных вензелях
алюминиевая птица –
вместо тела
фюзеляж
и над ее шеей гайковой
как пламени язык
над гигантской зажигалкой
полыхает
женский
лик!
(В простынь капиталистическую
Завернувшись, спит мой друг.)
кто ты? бред кибернетический?
полуробот? полудух?
помесь королевы блюза
и летающего блюдца?
может ты душа Америки
уставшей от забав?
кто ты юная химера
с сигареткою в зубах?
но взирают не мигая
не отерши крем ночной
очи как на Мичигане
у одной
у нее такие газовые
под глазами синячки
птица что предсказываешь?
птица не солги!
что ты знаешь сообщаешь?
что-то странное извне
как в сосуде сообщающемся
подымается во мне
век атомный стонет в спальне...
(Я ору. И, матерясь,
Мой напарник, как ошпаренный,
Садится на матрас.)
Стриптиз
В ревю
танцовщица раздевается, дуря...
Реву?..
Или режут мне глаза прожектора?
Шарф срывает, шаль срывает, мишуру.
Как сдирают с апельсина кожуру.
А в глазах тоска такая, как у птиц.
Этот танец называется "стриптиз".
Страшен танец. В баре лысины и свист,
Как пиявки
глазки пьяниц налились.
Этот рыжий, как обляпанный желтком,
Пневматическим исходит молотком!
Тот, как клоп, –
апоплексичен и страшон.
Апокалипсисом воет саксофон!
Проклинаю твой, Вселенная, масштаб,
Марсианское сиянье на мостах,
Проклинаю,
обожая и дивясь,
Проливная пляшет женщина под джаз!..
"Вы Америка?" – спрошу, как идиот.
Она сядет, папироску разомнет.
"Мальчик, – скажет, – ах, какой у вас акцент!
Закажите мне мартини и абсент".
Бьет женщина
В чьем ресторане, в чьей стране – не вспомнишь,
но в полночь
есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год,
и женщина разгневанная – бьет!
Быть может, ей не подошла компания,
где взгляды липнут, словно листья банные?
За что – неважно. Значит, им положено –
пошла по рожам, как белье полощут.
Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!
Вмажь майонезом лысому в подтяжках.
Бей, женщина!
Массируй им мордасы!
За все твои грядущие матрасы,
за то, что ты во всем передовая,
что на земле давно матриархат –
отбить,
обуть,
быть умной,
хохотать –
такая мука – непередаваемо!
Влепи в него салат из солонины.
Мужчины, рыцари,
куда ж девались вы?!
Так хочется к кому-то прислониться –
увы...
Бей, реваншистка! Жизнь – как белый танец.
Не он, а ты его, отбивши, тянешь.
Пол-литра купишь.
Как он скучен, хрыч!
Намучишься, пока расшевелишь.
Ну можно ли в жилет пулять мороженым?!
А можно ли
в капронах
ждать в морозы?
Самой восьмого покупать мимозы –
можно?!
Виновные, валитесь на колени,
колонны,
люди,
лунные аллеи,
вы без нее давно бы околели!
Смотрите,
из-под грязного стола –
она, шатаясь, к зеркалу пошла.
«Ах, зеркало, прохладное стекло,
шепчу в тебя бессвязными словами,
сама к себе губами
прислоняюсь,
и по тебе
сползаю
тяжело,
и думаю: трусишки, нету сил –
меня бы кто хотя бы отлупил!..»
1964
* * *
Пел Твардовский в ночной Флоренции,
как поют за рекой в орешнике,
без искусственности малейшей
на Смоленщине,
и обычно надменно-белая
маска замкнутого лица
покатилась
над гобеленами,
просветленная, как слеза,
и портье внизу, удивляясь,
узнавали в напеве том
лебединого Модильяни
и рублевский изгиб мадонн,
не понять им, что страшным ликом,
в модернистских трюмо отсвечивая,
приземлилась меж нас
Великая
Отечественная,
она села тревожной птицей,
и, уставясь в ее глазницы,
понимает один из нас,
что поет он последний раз.
И примолкла вдруг переводчица,
как за Волгой ждут перевозчика,
и глаза у нее горят,
как пожары на Жигулях.
Ты о чем, Ирина-рябина,
поешь?
Россию твою любимую
терзает война, как нож,
ох, женские эти судьбы,
охваченные войной,
ничьим судам не подсудные,
с углями под золой.
Легко ль болтать про де Сантиса,
когда через все лицо
выпрыгивающая
десантница
зубами берет кольцо!
Ревнуя к мужчинам липовым,
висит над тобой, как зов,
первая твоя
Великая
Отечественная Любовь,
прости мне мою недоверчивость...
Но черт тебя разберет,
когда походочкой верченой
дамочка
идет,
у вилл каблучком колотит,
но в солнечные очки
водой
в горящих
колодцах
мерцают ее зрачки!
Длиноного
Это было на взморье синем –
в Териоках ли? в Ориноко? –
она юное имя носила –
Длиноного!
Выходила – походка легкая,
а погодка такая летная!
От земли,
как в стволах соки,
по ногам
подымаются
токи,
ноги праздничные гудят –
танцевать,
танцевать хотят!
Ноги! Дьяволы элегантные,
извели тебя хулиганствами!
Ты заснешь – ноги пляшут, пляшут,
как сорвавшаяся упряжка.
Пляшут даже во время сна.
Ты ногами оглушена.
Побледневшая, сокрушенная,
вместо водки даешь крюшоны –
под прилавком сто дьяволят
танцевать,
танцевать хотят!
«Танцы-шманцы?! – сопит завмаг. –
Ах, у женщины ум в ногах».
Но не слушает Длиноного
философского монолога.
Как ей хочется повышаться
на кружке инвентаризации!
Ну, а ноги несут сами –
к басанове несут,
к самбе!
Он – приезжий. Чудной как цуцик.
«Потанцуем?»
Ноги, ноги, такие умные!
Ну, а ночи, такие лунные!
Длиноного, побойся бога,
сумасшедшая Длиноного!
А потом она вздрогнет: «Хватит».
Как коня, колени обхватит
и качается, обхватив,
под насвистывающий мотив...
Что с тобой, моя Длиноного?..
Ты – далеко.
Песня Офелии
Мои дела –
как сажа бела,
была черноброва, светла была,
да все добро свое раздала,
миру по нитке –
голая станешь,
ивой поникнешь, горкой растаешь,
мой Гамлет приходит с угарным дыханьем,
пропахший бензином, чужими духами,
как свечки, бокалы стоят вдоль стола,
идут дела
и рвут удила,
уж лучше б на площадь, в чем мать родила,
не крошка с Манежной, не мужу жена,
а жизнь, как монетка,
на решку легла,
искала –
орла,
да вот не нашла...
Мои дела –
как зола – дотла.
Флорентийские факелы
3. Богуславской
Ко мне является Флоренция,
фосфоресцируя домами,
и отмыкает, как дворецкгьй,
свои палаццо и туманы.
Я знаю их. Я их калькировал
для бань, для стадиона в Кировске,
спит Баптистерий, как развитие
моих проектов вытрезвителя.
Дитя соцреализма грешное,
вбегаю в факельные площади,
ты – калька с юности, Флоренция!
брожу по прошлому!
Через фасады, амбразуры,
как сквозь восковку,
восходят судьбы и фигуры
моих товарищей московских.
Они взирают в интерьерах,
меж вьющихся интервьюеров,
как ангелы или лакеи,
стоят за креслами, глазея.
А факелы над черным Арно
необъяснимы –
как будто в огненных подфарниках
несутся в прошлое машины!
Ау! – зовут мои обеты,
Ау! – забытые мольберты,
и сигареты,
и спички сквозь ночные пальцы,
Ау! – сбегаются палаццо, –
авансы юности опасны! –
попался?!
И между ними мальчик странный,
еще не тронутый эстрадой,
с лицом, как белый лист тетрадный,
в разинутых подошвах с дратвой –
здравствуй!
Он говорит: «Вас не поймаешь!
Преуспевающий пай-мальчик,
Вас заграницы издают.
Вас продавщицы узнают.
Но почему вы чуть не плакали?
И по кому прощально факелы
над флорентийскими хоромами
летят свежо и похоронно?..
Я занят, Я его прерву.
Осточертели интервью.
Сажусь в машину. Дверцы мокры.
Флоренция летит назад.
И как червонные семерки
палаццо в факелах горят.
1962
Прощание с Политехническим
Большой аудитории посвящаю
В Политехнический!
В Политехнический!
По снегу фары шипят яичницей.
Милиционеры свистят панически.
Кому там хнычется?!
В Политехнический!
Ура, студенческая шарага!
А ну, шарахни
по совмещанам свои затрещины!
Как нам мещане мешали встретиться
Ура вам, дура
в серьгах-будильниках!
Ваш рот, как дуло,
разинут бдительно.
Ваш стул трещит от перегрева.
Умойтесь! Туалет – налево.
Ура, галерка! Как шашлыки,
дымятся джемперы, пиджаки.
Тысячерукий, как бог языческий.
Твое Величество –
Политехнический!
Ура, эстрада! Но гасят бра.
И что-то траурно звучит «ура».
12 скоро. Пора уматывать.
Как ваши лица струятся матово.
В них проступают, как сквозь экраны,
все ваши радости, досады, раны.
Вы, третья с краю,
с копной на лбу,
я вас не знаю.
Я вас люблю!
Чему смеетесь? Над чем всплакнете?
И что черкнете, косясь, в блокнотик?
Что с вами, синий свитерок?
В глазах тревожный ветерок...
Придут другие – еще лиричнее,
но это будут не вы –
другие.
Мов ботинки черны, как гири.
Мы расстаемся, Политехнический!
Нам жить недолго. Суть не в овациях.
Мы растворяемся в людских количествах
в твоих просторах,
Политехнический.
Невыносимо нам расставаться.
Я ненавидел тебя вначале.
Как ты расстреливал меня молчанием!
Я шел как смертник в притихшем зале.
Политехнический, мы враждовали!
Ах, как я сыпался! Как шла на помощь
записка искоркой электрической...
Политехнический,
ты это помнишь?
Мы расстаемся, Политехнический.
Ты на кого-то меня сменяешь,
но, понимаешь,
пообещан мне, не будь чудовищем,
забудь
со стоящим!
Ты ворожи ему, храни разиню.
Политехнический –
моя Россия! –
ты очень бережен и добр, как бог,
лишь Маяковского не уберег...
Поэты падают,
дают финты
меж сплетен, патоки
и суеты,
но где б я ни был – в земле, на Ганге,
ко мне прислушивается
магически
гудящей
раковиною
гиганта
ухо
Политехнического!
СНЕГ ПАХНЕТ АНТОНОВКОЙ
|
... во мне как в спектре живут семь "я"... а весной... |
Гойя
Я – Гойя!
Глазницы воронок мне выклевал ворог,
слетая на поле нагое.
Я – Горе.
Я – голос
Войны, городов головни
на снегу сорок первого года,
Я – голод,
Я горло
Повешенной бабы, чье тело, как колокол,
било над площадью голой...
Я – Гойя!
О, грозди
Возмездья! Взвил залпом на Запад –
я пепел незваного гостя!
И в мемориальное небо вбил крепкие
звезды –
Как гвозди.
Я – Гойя.
1959
Новогоднее письмо в Варшаву
А. Л.
Когда под утро, точно магний,
бледнеют лица в зеркалах
и туалетною бумагой
прозрачна пудра на щеках,
как эти рожи постарели!
Как хищно на салфетке в ряд,
как будто раки на тарелке,
их руки красные лежат!
Ты бродишь среди этих блюдищ.
Ты лоб свой о фужеры студишь.
Ты шаль срываешь. Ты горишь.
«В Варшаве душно», – говоришь.
А у меня окно распахнуто
в высотный город словно в сад
и снег антоновкою пахнет,
и хлопья в воздухе висят
они не движутся не падают
ждут
не шелохнутся
легки
внимательные
как лампады
или как летом табаки
Они немножечко качнутся,
когда их ноженькой
коснутся,
одетой в польский сапожок...
Пахнет яблоком снежок.
1961
На плотах
Нас несет Енисей.
Как плоты над огромной
и черной водой,
Я – ничей!
Я – не твой, я – не твой, я – не твой!
Ненавижу провал
твоих губ, твои волосы,
платье, жилье.
Я плевал
на святое и лживое имя твое!
Ненавижу за ложь
телеграмм и открыток твоих,
Ненавижу, как нож
по ночам ненавидит живых,
Ненавижу твой шелк,
проливные нейлоны гардин,
Мне нужнее мешок, чем холстина картин!
Атаманша-тихоня,
телефон-автоматной Москвы,
Я страшон, как икона,
почернел и опух от мошки.
Блещет, точно сазан,
голубая щека рыбака,
«Нет» – слезам.
«Да» – мужским, продубленным рукам.
«Да» = – девчатам разбойным,
купающим МАЗ, как коня,
«Да» – брандспойтам,
Сбивающим горе с меня.
1959
Сибирские бани
Бани! Бани! Двери – хлоп!
Бабы прыгают в сугроб.
Прямо с пылу, прямо с жару –
Ну и ну!
Слабовато Ренуару
До таких сибирских «ню»!
Что мадонны! Эти плечи,
Эти спины наповал,
Будто доменною печью
Запрокинутый металл.
Задыхаясь от разбега,
Здесь на ты, на ты, на ты
Чистота огня и снега
С чистотою наготы.
День морозный, чистый, парный,
Мы стоим, четыре парня, –
В полушубках, кровь с огнем,
Как их шуткой
шуганем!
Ой, испугу!
Ой, в избушку,
Как из пушки, во весь дух:
– Ух!..
А одна в дверях задержится,
За приступочку подержится
И в соседа со смешком
Кинет
кругленьким снежком!
1959
Тайга
Твои зубы смелы
в них усмешка ножа
и гудят как шмели
золотые глаза!
мы бредем от избушки
нам трава до ушей
ты пророчишь мне взбучку
от родных и друзей
ты отнюдь не монахиня
хоть в округе – скиты
бродят пчелы мохнатые
нагибая цветы
я не знаю – тайги
я не знаю – семьи
знаю только зрачки
знаю – зубы твои
на ромашках роса
как в буддийских пиалах
как она хороша
в длинных мочках фиалок!
в каждой капельке – мочке
отражаясь мигая
ты дрожишь как Дюймовочка
только кверху ногами
ты – живая вода
на губах на листке
ты себя раздала
всю до капли – тайге
Гитара
Меж перца и малаг
под небом наших хижин
костлявый как бурлак
певец был юн и хищен
и огненной настурцией
робея и наглея
гитара как натурщица
лежала на коленях
она была смирней
чем в таинстве дикарь
и темный город в ней
гудел и затихал
а то как в реве цирка
вся не в своем уме – .
горящим мотоциклом
носилась по стене!
мы – дети тех гитар
отважных и дрожащих
между подруг дражайших
неверных как янтарь
среди ночных фигур
ты губы морщишь едко
к ним как бикфордов шнур
крадется сигаретка
1961
* * *
Кто мы – фишки или великие?
Гениальность в крови планеты.
Нету «физиков», нету «лириков» –
Лилипуты или поэты!
Независимо от работы
Нам, как оспа, привился век.
Ошарашивающее – «Кто ты?»
Нас заносит, как велотрек.
Кто ты? Кто ты? А вдруг – не то?
Как Венеру шерстит пальто!
Кукарекать стремятся скворки,
Архитекторы – в стихотворцы!
И, оттаивая ладошки,
Поэтессы бегут в лотошницы!
Ну, а ты?..
Уж который месяц –
В звезды метишь, дороги месишь...
Школу кончила, косы сбросила,
Побыла продавщицей – бросила.
И опять и опять, как в салочки,
Меж столешниковых афиш,
Несмышленыш,
олешка,
самочка,
Запыхавшаяся, стоишь!..
Кто ты? Кто?! – Ты глядишь с тоскою
В книги, в окна – но где ты там? –
Припадаешь, как к телескопам,
К неподвижным мужским зрачкам...
Я брожу с тобой, Верка, Вега...
Я и сам посреди лавин,
Вроде снежного человека,
Абсолютно неуловим.
1959
Туманная улица
Туманный пригород как турман.
Как поплавки милиционеры.
Туман.
Который век? Которой эры?
Все – по частям, подобно бреду.
Людей как будто развинтили...
Бреду.
Верней – барахтаюсь в ватине.
Носы. Подфарники. Околыши.
Они, как в фодисе, двоятся.
Калоши?
Как бы башкой не обменяться!
Так женщина – от губ едва,
двоясь и что-то воскрешая,
уж не любимая – вдова,
еще – твоя, уже – чужая...
О тумбы, о прохожих трусь я...
Венера? Продавец мороженого!..
Друзья?
Ох, эти яго доморощенные!
Я спотыкаюсь, бьюсь, живу,
туман, туман – не разберешься,
о чью щеку в тумане трешься?..
Ау!
Туман, туман – не дозовешься...
Как здорово, когда туман рассеивается!
1959
Параболическая баллада
Судьба, как ракета, летит по параболе
Обычно – во мраке и реже – по радуге.
Жил огненно-рыжий художник Гоген,
Богема, а в прошлом – торговый агент.
Чтоб в Лувр королевский попасть
из Монмартра,
Он
дал
кругаля через Яву с Суматрой!
Унесся, забыв сумасшествие денег,
Кудахтанье жен, духоту академий.
Он преодолел
тяготенье земное.
Жрецы гоготали за кружкой пивною:
«Прямая – короче, парабола – круче,
Не лучше ль скопировать райские кущи?»
А он уносился ракетой ревущей
Сквозь ветер, срывающий фалды и уши.
И в Лувр он попал не сквозь главный порог –
Параболой
гневно
пробив потолок!
Идут к своим правдам, по-разному храбро,
Червяк – через щель, человек – по параболе.
Жила-была девочка рядом в квартале.
Мы с нею учились, зачеты сдавали.
Куда ж я уехал!
И черт меня нес
Меж грузных тбилисских двусмысленных звезд!
Прости мне дурацкую эту параболу.
Простывшие плечики в черном парадном...
О, как ты звенела во мраке Вселенной
Упруго и прямо – как прутик антенны!
А я все лечу,
приземляясь по ним –
Земным и озябшим твоим позывным.
Как трудно дается нам эта парабола!..
Сметая каноны, прогнозы, параграфы,
Несутся искусство,
любовь
и история –
По параболической траектории!
В сибирской весне утопают калоши
А может быть, все же прямая – короче?
1959
Ода сплетникам
Я славлю скважины замочные
Клевещущему –
Исполать.
Все репутации подмочены.
Трещи,
Трехспальная кровать!
У, сплетники! У, их рассказы!
Люблю их царственные рты,
Их уши,
точно унитазы,
Непогрешимы и чисты.
И версии урчат отчаянно
В лабораториях ушей,
Что кот на даче у писателя
Сожрал соседских голубей,
Что гражданина А. в редиске
Накрыли с балериной Б...
Я жил тогда в Новосибирске
В блистанье сплетен о тебе.
Как пулеметы, телефоны
Меня косили наповал.
И, точно тенор – анемоны,
Я анонимки получал.
Междугородние звонили.
И голос, пахнущий ванилью,
Шептал, что ты опять дуришь,
Что твой поклонник толст и рыж.
Что таешь, таешь льдышкой тонкой
В пожатье пышущих ручищ...
Я возвращался,
На Волхонке
Лежали черные ручьи.
И все оказывалось шуткой,
Насквозь придуманной виной,
И ты запахивала шубку
И пахла снегом и весной.
Любимая, Наташа, чудо,
Чистейшая среди клевет,
Чем траурнее пересуды,
Тем чище
твой высокий
свет!
Та ложь становится гарантией
Твоей любви, твоей тоски...
Орите, милые, горланьте!..
Да здравствуют клеветники!
Смакуйте! Дергайтесь от тика!
Но почему так страшно тихо?
Тебя не судят, не винят,
И телефоны не звонят...
Отступление о частной собственности
Отзовись!
Что с тобою? примчись, припади, расскажи!
Атавизм?
Или может быть – рак души?..
К лучшей женщине мира,
к самой юной беда добралсь.
А была она милая,
С фаюмским сиянием глаз.
Мотоциклы вела,
в них вонзалась и гнулась она,
Как стрела
В разъяренном, ревущем боку кабана!
Начинается с дач,
лимузинов, с небритых мужей,
Начинается сдача
Самых чистых ее рубежей.
Раздавило машиной,
под глазами, как нимбы, мешки.
Чьи-то лапки мышиные,
Как клеенка, липки.
Осень сад осыпает
на толченый кирпич.
Человек засыпает.
И ночами – кричит!
Что-то давит ей плечики...
И всю ночь – не помочь! –
Дача
пляшет
на пленнице,
Как татарский помост!
Осень
С.Щипачеву
Утиных крыльев переплеск.
И на тропинках заповедных
Последних паутинок блеск,
Последних спиц велосипедных.
И ты примеру их последуй,
Стучись проститься в дом последний,
В том доме женщина живет
И мужа к ужину не ждет.
Она откинет мне щеколду,
К тужурке припадет щекою,
Она, смеясь, протянет рот.
И вдруг, погаснув, все поймет –
Поймет осенний зов полей,
Полет семян, распад семей...
Озябшая и молодая,
Она подумает о том,
Что яблонька и та – с плодами,
Буренушка и та – с телком.
Что бродит жизнь в дубовых дуплах,
В полях, домах, в лесах продутых,
Им – колоситься, токовать.
Ей – голосить и тосковать.
Как эти губы жарко шепчут:
«Зачем мне руки, груди, плечи?
К чему мне жить и печь топить
И на работу выходить?»
Ее я за плечи возьму –
Я сам не знаю, что к чему...
А за окошком в юном инее
Лежат поля из алюминия.
По ним – черны, по ним – седы,
До железнодорожной линии
Сужаясь, тянутся следы.
Первый лед
Мерзнет девочка в автомате,
Прячет в зябкое пальтецо
Все в слезах и губной помаде
Перемазанное лицо.
Дышит в худенькие ладошки.
Пальцы – льдышки. В ушах – сережки.
Ей обратно одной, одной
Вдоль по улочке ледяной.
Первый лед. Это в первый раз.
Первый лед телефонных фраз.
Мерзлый след на щеках блестит –
Первый лед от людских обид.
Поскользнешься. Ведь в первый раз.
Бьет по радио поздний час.
Эх, раз,
Еще раз,
Еще много, много раз.
1959
* * *
В. Бокову
Лежат велосипеды
в лесу в росе,
в березовых просветах
блестит шоссе,
попадали, припали
крылом –
к крылу,
педалями –
в педали,
рулем – к рулю,
да разве их разбудишь – >
ну хоть убей! –
оцепенелых чудищ
в витках цепей,
большие, изумленные
глядят с земли,
над ними – мгла зеленая,
смола,
шмели,
в шумящем изобилии
ромашек, мят
лежат,
о них забыли,
и спят
и спят.
1963
* * *
Сидишь беременная, бледная.
Как ты переменилась, бедная.
Сидишь, одергиваешь платьице,
И плачется тебе, и плачется...
За что нас только бабы балуют
И губы, падая, дают,
И выбегают за шлагбаумы,
И от вагонов отстают?
Как ты бежала за вагонами,
Глядела в полосы оконные...
Стучат почтовые, курьерские,
Хабаровские, люберецкие...
И от Москвы до Ашхабада,
Остобенев от немоты,
Стоят, как каменные бабы,
Луне подставив животы.
И, поворачиваясь к свету,
В ночном быту необжитом –
Как понимает их планета
Своим огромным животом.
1958
Кроны и корни
Несли не хоронить,
Несли короновать.
Седее, чем гранит,
Как бронза – красноват,
Дымясь локомотивом,
Художник жил,
лохмат,
Ему лопаты были
Божественней лампад!
Его сирень томилась...
Как звездопад,
в поту,
Его спина дымилась
Буханкой на поду!..
Зияет дом его.
Пустые этажи.
В столовой никого.
В России – ни души.
Художники уходят
Без шапок,
будто в храм,
В гудящие угодья
К березам и дубам.
Побеги их – победы.
Уход их – как восход
К полянам и планетам
От ложных позолот.
Леса роняют кроны.
Но мощно под землей
Ворочаются корни
Корявой пятерней.
1960
Загорская лавра
Сопя носами сизыми
И подоткнувши рясы –
Кто смотрит телевизоры,
Кто просто точит лясы.
Я рядом с бледным служкою
Сижу и тоже слушаю
Про денежки, про ладанки
И про родню на Ладоге...
Я говорю: – Эх, парень,
Тебе б дрова рубить,
На мотоцикле шпарить,
Девчат любить!
Тебе б не четки
И не клобук, –
Тебе б чечеткой
Дробить каблук!
Эх, вприсядку,
Чтоб пятки – в небеса!
Уж больно девки пдки
На синие глаза.
Он говорит: – Вестимо... –
И прячет, словно вор,
Свой нестерпимо синий,
Свой нестеровский взор.
И быстрою походкой
Уходит за решетку.
Мол, дружба – дружбой,
А служба – службой...
1958
Баллада работы
Е. Евтушенко
Петр
Первый –
Пот
первый...
Не царский (от шубы,
от баньки с музыкой),
а радостный
грубый,
мужицкий!
От плотской забавы
гудела спина,
от плотницкой бабы,
пилы, колуна.
Аж в дуги сгибались
дубы топорищ!
Аж тцепки вонзались
в Стамбул и Париж!
А он только крякал,
упруг и упрям,
расставивши краги,
как башенный кран.
А где-то в Гааге
мужик и буян,
гуляка отпеты я,
и нос точно клубень –
Петер?!
Рубенс?
А может, не Петер?
А может,
не Рубенс?
Он жил среди петель,
рубинов и рубищ,
где в страшной пучине восстаний и путчей
песлись капуцины,
как бочки
с капустой!
Он жил, неопрятный, в расстегнутых брюках,
и брюхо
моталось
мохнатою
брюквой.
Небритый, уже сумасшедший отчасти,
он уши топорщил,
как ручки от чашки.
Дымясь волосами, как будто над чаном,
он думал.
И все это было началом,
началом, рождающим Савских и Саский...
Бьет пот –
олимпийский,
торжественный,
царский!
Бьет пот
(чтобы стать жемчугами Вирсавии).
Бьет пот
(чтоб сверкать сквозь фонтаны Версаля).
Бьет пот,
превращающий на века
художника – в бога, царя – в мужика!
Вас эта высокая влага кропила,
чело целовала и жгла, как крапива.
Вы были как боги – рабы ремесла!..
В прилипшей ковбойке
стою у стола.
1959
Свадьба
Выходит замуж молодость
Не за кого – за что.
Себя ломает молодость
За модные манто.
За золотые горы
И в серебре виски.
Эх, да по фарфору
Ходят сапоги!
Где пьют, там и бьют –
Чашки, кружки об пол бьют.
Горшки – в черепки,
Молодым под каблуки.
Брызжут чашки на куски:
Чье-то счастье –
В черепки!
И ты в прозрачной юочке,
Юна, бела,
Дрожишь, как будто рюмочка
На краешке стола.
Улыбочка, как трещинка,
Играет на губах,
И мокрые отметинки
Темнеют на щеках.
Где пьют, там и льют –
Слезы, слезы, слезы льют...
1959
Елка
За окном кариатиды,
А в квартирах – каблуки...
Елок
крылья
реактивные
Прошибают потолки!
Что за чуда нам пророчатся?
Какая из шарад
В этой хвойной непорочности,
В этих огненных шарах?
О, девчонка с мандолиной!
Одуряя и журя,
Полыхает мандарином
Рыжей челки кожура!
Расшалилась, точно школьница,
Иголочки грызет...
Что хочется,
чем колется
Ей следующий год?
Века, бокалы, луны...
"Туши! Туши!"
Любовь всегда –
кануны.
В ней –
Новый год
души.
А елочное буйство,
Как женщина впотьмах –
Вся в будущем,
как в бусах,
И иглы на губах!
Репортаж с открытия ГЭС
Мы – противники тусклого.
Мы приучены к шири –
самовара ли тульского
или ТУ-104.
Затаенно, по-русски,
быстриною блестят
широченные русла
в миллион киловатт.
В этом пристальном крае,
отрицатели мглы,
мы не ГЭС открываем –
открываем миры.
И стоят возле клуба,
описав полукруг,
Магелланы, Колумбы
и Коломн и Калуг,
судят веско, не робко,
что там твой эрудит...
Обалдело Европа
в объективы глядит.
И сверкают, как слитки,
липа крепких ребят
белозубой улыбкой
в миллиард киловатт.
1960
Тбилисские базары
...носы на солнце лупятся,
как живопись на фресках.
как живопись на фресках.
Долой Рафаэля!
Да здравствует Рубенс!
Фонтаны форели,
Цветастая грубость!
Здесь праздники в будни
Арбы и арбузы.
Торговки – как бубны,
В браслетах и бусах.
Индиго индеек.
Вино и хурма.
Ты нчынче без денег?
Пей задарма!
Да здравствую бабы,
Торговки салатом,
Под стать баобабам
В четыре обхвата!
Базары – пожары.
Здесь огненно, молодо
Пылают загаром
Не руки, а золото.
В них отблески масел
И вин золотых.
Да здравствует мастер,
Что выпишет их!
Горный родничок
Стучат каблучонки
как будто копытца
девчонка
к колонке
сбегает напиться
и талия блещет
увертливей змейки
и юбочка плещет
как брызги из лейки
хохочет девчонка
и голову мочит
журчащая челка
с водою лопочет
две чудных речонки
к кому кто приник?
и кто тут
девчонка?
и кто тут родник?
Уроки польского
"Урода" – значит красота.
Как просто!..
Пускай осталась от костра
короста,
пускай ваш друг погас, обрюзг,
глаза как ставни,
но чем потрепанней бурдюк –
тем пить хрустальней!
А ты вульгарна как весна,
ресниц огарочки потухли,
вишневые, как ветчина,
на белом каучуке туфли.
Но сколько синей тишины
в тебе под вечер,
как нематериальны сны,
как подвенечны,
и так серебряны глаза
на фиолетовом –
как сохраняется, дрожа,
в футляре флейта!
А у старух лиловый взгляд
над огородами.
"У, дрянь, – старухи говорят, –
урода!"
Торгуют арбузами
Москва завалена арбузами.
Пахнуло волей без границ.
И веет силой необузданной
От возбужденных продавщиц.
Палатки. Гвалт. Платки девчат.
Хохочут. Сдачею стучат.
Ножи и вырезок тузы.
«Держи, хозяин, не тужи!»
Кому кавун? Сейчас расколется!
И так же сочны и вкусны
Милиционерские околыши
И мотороллер у стены.
И так же весело и свойски,
как те арбузы у ворот
земля
мотается
в авоське
меридианов и широт!
1956
Сирень «Москва – Варшава»
Р. Гамзатову
11.III.61
Сирень прощается, сирень – как лыжница,
сирень, как пудель, мне в щеки
лижется!
Сирень заревана,
сирень – царевна,
сирень пылает ацетиленом!
Расул Гамзатов хмур как бизон.
Расул Гамзатов сказал: «Свезем».
12.III.61
Расул упарился. Расул не спит.
В купе купальщицей сирень дрожит.
О, как ей боязно!
Под низом
колеса поезда – не чернозем.
Наверно, в мае цвесть «красивей»...
Двойник мой, магия, сирень, сирень,
сирень как гений!
Из всех одна
на третьей скорости цветет она!
Есть сто косулей –
одна газель.
Есть сто свистулек – одна свирель.
Несовременно цвести в саду.
Есть сто сиреней.
Люблю одну.
Ночные грозди гудят махрово,
как микрофоны из мельхиора.
У, дьявол-дерево! У всех мигрень.
Как сто салютов, стоит сирень.
13.III.61
Таможник вздрогнул: «Живьем? В кустах?!»
Таможник, ахнув, забыл устав.
Ах, чувство чуда – седьмое чувство...
Вокруг планеты зеленой люстрой,
промеж созвездий и деревень
свистит
трассирующая
сирень!
Смешны ей – почва, трава, права...
P. S.
Читаю почту: «Сирень мертва».
P. P. S.
Черта с два!
Монолог рыбака
"Конечно, я не оратор,
подкованный философски,
но
ратую
за тех, кто берет лосося!
Бывали вы в нашем море,
магнитнейшем из морей?
Оно от лимонных молний
кажется лиловей!
Мотаются мотороботы,
как уголь, горит вода –
работы!
работа!
Все прочее – лабуда.
Мы боги, когда работает,
просвечены до волос,
по борту,
по борту,
как лампы, летит лосось.
Да здравствует же свобода,
нужнейшая из свобод,
работа,
работа –
как праздничный ледоход.
Работа, работа...
И так же не спят с тобой
смородины и самолеты,
гудящие над землей,
ночные составы в саже
несутся тебе под стать,
в них машинисты всажены –
как нож по рукоять!
И где-то над циклотроном
загадочный, как астроном,
сияя румяной физией,
считая свои дробя,
Вадик Клименко,
физик,
вслушивается в тебя.
Он, как штангист, добродушен,
но Вадика не тревожь –
полет звездопадов душных,
расчет городов и рощ
дрожит часовым механизмом
в руке его здоровенной –
не шизики –
а физики
герои нашего времени!..
...А утром, закинув голову,
вам милая шепчет сон,
и поры пронзит иголочками
серебряными
озон...
Ну, впрочем, я заболтался.
Ребята ждут на баркасе...»
Он шел и смеялся щурко.
Дрожал маяк вдалеке –
он вспыхивал, как чешуйка
у полночи на щеке.
Монолог битника
Лежу бухой и эпохальный.
Постигаю Мичиган,
Как в губке время набухает
в моих веснушчатых щеках.
В лице, лохматом как берлога,
лежат озябшие зрачки.
Перебираю как брелоки
Прохожих, огоньки.
Ракетодромами гремя,
дождями атомными рея,
плевало время на меня, -
плюю на время!
Политика? К чему валандаться!
Цивилизация душна*
Вхожу, как в воду с аквалангом,
в тебя, зеленая душа.
Мы – битники. Среди хулы
мы – как звереныши, волчата.
Скандалы точно кандалы
за нами с лязгом волочатся.
Когда магнитофоны ржут,
с опухшим носом скомороха,
вы думали – я шут?
Я – суд!
Я – Страшный суд. Молись, эпоха!
Мой демонизм – как динамит,
созрев, тебя испепелит.
1961
Вынужденное отступление
В Америке, пропахшей мраком,
камелией и аммиаком,
В отелях лунных, как олени,
по алюминиевым аллеям,
Пыхтя как будто тягачи,
За мною ходят стукачи –
17 лбов из ФБР,
Брр!..
Один – мордастый, как томат,
другой – галантно-нагловат,
И их главарь – горбат и хвор.
Кровавый глаз – как семафор.
Гостиницы имеют уши.
Как микрофон головка дуща,
И писсуар глядит на вас,
Как гипсовой богини глаз.
17 объективов щелкали,
17 раз в дверную щелку
Я вылетал, как домовой,
Сквозь линзу – книзу головой!
Живу. В гостиных речь веду.
Смеюсь остротам возле секса.
Лежат 17 Вознесенских
В кассетах, сейфах, как в аду.
Они с разинутыми ртами,
как лес с затекшими руками,
Как пленники в игре "замри!",
Застыли двойники мои.
Один застыл в зубах с лангустой.
Другой – в прыжке повис, как люстра.
А у того в руках вода,
Он не напьется никогда!
17 Вознесенских стонут,
они без голоса. Мой крик
Накручен на магнитофоны,
Как красный вырванный язык!
Я разворован, я разбросан,
меня таскают на допросы...
Давно я дома. Жив вполне.
Но как-то нет меня во мне.
А там, в заморских казематах,
шпионы в курточках шпинатных,
Как рентгенологи и филины,
Меня просматривают в фильме.
Один надулся, как моским.
Другой хрипит: "Дошел, москвич?!.."
Горбун мрачнее. Он молчит.
Багровый глаз его горит.
Невыносимо быть распятым,
до каждой родинки сквозя,
Когда в тебя от губ до пяток,
Как пули, всажены глаза!
И пальцы в ржваых заусенцах
по сердцу шаркают почти.
"Вам больно, мистер Вознесенский?"
Пусти, чудовище! Пусти.
Пусти, красавчик Квазимодо!
Душа горит, кровоточа
От пристальных очей "Свободы"
И нежных взоров стукача.
Охота на зайца
Ю. Казакову
Травят зайца. Несутся суки.
Травля! Травля! Сквозь лай и гам.
И оранжевые кожухи
Апельсинами по снегам.
Травим зайца. Опохмелившись,
Я, завгар, лейтенант милиции,
Лица в валенках, в хроме лица,
Зять Букашкина с пацаном –
Газанем!
Газик, чудо индустриализации,
Наворачивает цепя.
Трали-вали! Мы травим зайца.
Только, может, травим себя?
Полыхают снега нарядные,
Сапоги на мне и тужурка,
Что же пляшет прицел мой, Юрка?
Юрка, в этом что-то неладное,
Если в ужасе по снегам
Скачет крови
живой стакан!
Страсть к убийству, как страсть к зачатию,
Ослепленная и зловещая,
Она нынче вопит: зайчатины!
Завтра взвоет о человечине...
Он лежал посреди страны,
Он лежал, трепыхаясь слева,
Словно серое сердце леса,
Тишины.
Он лежал, синеву боков
Он вздымал, он дышал пока еще,
Как мучительный глаз,
моргающий,
На печальной щеке снегов.
Но внезапно, взметнувшись свечкой,
Он возник,
И над лесом, над черной речкой
Резанул
Человечий
Крик!
Звук был пронзительным и чистым, как
ультразвук
или как крик ребенка.
Я знал, что зайцы стонут. Но чтобы так?!
Это была нота жизни. Так кричат роженицы.
Так кричат перелески голые
И немые досель кусты,
Так нам смерть прорезает голос
Неизведанной чистоты.
Той природе, молчально-чудной,
Роща, озеро ли, бревно –
Им позволено слушать, чувствовать,
Только голоса не дано.
Так кричат в последний и в первый.
Это жизнь, удаляясь, пела,
Вылетая, как из силка,
В небосклоны и облака.
Это длилось мгновение,
Мы окаменели,
как в остановившемся кинокадре.
Сапог бегущего завгара так и не коснулся земли.
Четыре черные дробинки, не долетев, вонзились
в воздух.
Он взглянул на нас. И – или это нам показа-
лось – над горизонтальными мышцами бегуна, над
запекшимися шерстинками шеи блеснуло лицо.
Глаза были раскосы и широко расставлены, как на
фресках Дионисия.
Он взглянул изумленно и разгневанно.
Он парил.
Как бы слился с криком.
Он повис...
С искаженным и светлым ликом,
Как у ангелов и певиц.
Длинноногий лесной архангел...
Плыл туман золотой к лесам.
«Охмуряет», – стрелявший схаркнул.
И беззвучно плакал пацан.
Возвращались в ночную пору.
Ветер рожу драл, как наждак.
Как багровые светофоры,
Наши лица неслись во мрак.
1963
Секвойя Ленина
В автомобильной Калифорнии,
Где солнце пахнет канифолью,
Есть парк секвой.
Из них одна
Ульянову посвящена.
«Секвойя Ленина?!
Ату!»
Столпотворенье, как в аду.
«Секвойя Ленина»?!
Как взрыв!
Шериф, ширинку не прикрыв,
Как пудель с красным языком,
Ввалился к мэру на прием.
«Мой мэр, крамола наяву.
Корнями тянется в Москву...
У!..»
Мэр съел сигару. Караул!
В Миссисипи
сиганул!
По всей Америке сирены.
В подвалах воет населенье.
Несутся танки черепахами.
Орудует землечерпалка.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Зияет яма в центре парка.
Кто посадил тебя, секвойя?
Кто слушал древо вековое?
Табличка в тигле сожжена.
Секвойи нет.
Но есть она!
В двенадцать ровно
ежесуточно
над небоскребами
светла
сияя кроной парашютовой
светя
прожектором ствола
торжественно озарена
секвойи нет
и есть она
вот так
салюты над Москвою
листвой
таинственной
висят
у каждого своя Секвойя
мы Садим Совесть Словно Сад
секвойя свет мой и товарищ
в какой бы я ни жил стране
среди авралов и аварий
среди оваций карнавальных
когда невыносимо мне
я опускаюсь как в бассейн
в твою серебряную сень
твоих бесед – не перевесть...
Секвойи – нет?
Секвойя – есть!
1962
Грузинский березы
У речки-игруньи
у горной лазури –
березы в Ингури
березы в
Ингури
как портики храма
колонками в ряд
прозрачно и прямо
березы стоят
как после разлуки
я в рощу вхожу
раскидываю
руки
и до ночи
лежу
сумерки сгущаются
надо мной
белы
качаются смещаются
прозрачные стволы
вот так светло и прямо
по трассе круговой
стоят
прожекторами
салюты
над Москвой
люблю их невесомость
их высочайший строй
проверяю совесть
белой чистотой
* * *
Я в Шушенском. В лесу слоняюсь.
Такая глушь в лесах моих!
Я думаю, что гениальность
Переселяется в других.
Уходят имена и числа.
Меняет гений свой покров.
Он – дух народа.
В этом смысле
Был Лениным – Андрей Рублев.
Как по архангелам келейным,
порхал огонь неукрощен.
И может, на секунду Лениным
Был Лермонтов и Пугачев.
Но вот в стране узкоколейной,
шугнув испуганную шваль,
В Ульянова вселился Ленин,
Так что пиджак трещал по швам!
Он диктовал его декреты.
Ульянов был его техредом.
Нацелен и лобаст, как линза,
он в гневный, фокус собирал,
Что думал зал. И афоризмом
Обрушивал на этот зал.
И часто от бессонных планов,
упав лицом на кулаки,
Устало говорил Ульянов:
«Мне трудно, Ленин. Помоги!»
Когда он хаживал с ружьишком,
он не был Лениным тогда,
А Ленин с профилем мужицким
Брал легендарно города!
Вносили тело в зал нетопленный,
а Он – в тулупы, лбы, глаза,
Ушел в нахмуренпые толпы,
Как партизан идет в леса.
Он строил, светел и двужилен,
страну в такие холода.
Не говорите: «Если б жил он!..»
Вот если б умер – что тогда?
Какая пепельная стужа
сковала б родину мою!
Моя замученная муза,
Что пела б в лагерном краю?
Как он страдал в часы тоски,
когда по траурным
трибунам –
По сердцу Ленина! –
тяжки,
Самодержавно и чугунно,
Стуча,
взбирались
сапоги!
В них струйкой липкой и опасной
Стекали красные лампасы...
И как ему сейчас торжественно
И как раскованно –
сиять,
Указывая
Щедрым
Жестом
На потрясенных марсиан!
1962
ОСЕНЕБРИ
|
Стоял январь, не то февраль - Какой-то чертовый Зимарь! Я помню только голосок, над красным ротиком - парок, и песенку: "Летят вдали красивые осенебри..." |
Вечернее
Я сослан в себя
я – Михайловское
горят мои сосны смыкаются
в лице моем мутном как зеркало
смеркаются лоси и пергалы
природа в реке и во мне
и где-то еще – извне
три красные солнца горят
три рощи как стекла дрожат
три женщины брезжут в одной
как матрешки – одна в другой
одна меня любит смеется
другая в ней птицей бьется
а третья – та в уголок
забилась как уголек
она меня не простит
она еще отомстит
мне светит ее лицо
как со дна колодца – кольцо
Лобная баллада
Их величеством поразвлечься
Прет народ от Коломн и Клязьм.
«Их любовница –
контрразведчица,
англо-шведско-немецко-греческая...»
Казнь!
Царь страшон: точно кляча, тощий,
Почерневший, как антрацит.
По лицу проносятся очи,
Как буксующий мотоцикл.
И когда голова с топорика
Подкатилась к носкам ботфорт,
Он берет ее
над толпою,
Точно репу с красной ботвой!
Пальцы в щеки впились, как клещи,
Переносицею хрустя,
Кровь из горла на брюки хлещет.
Он целует ее в уста.
Только Красная площадь ахнет,
тихим стоном оглушена:
«А-а-анхен!..»
Отвечает ему она:
«Мальчик мой государь великий
не судить мне твоей вины
но зачем твои руки липкие
солоны?
баба я
вот и вся провинность
государства мои в устах
я дрожу брусничной кровиночкой
на державных твоих усах
в дни строительства и пожара
до малюсенькой ли любви?
ты целуешь меня Держава
твои губы в моей крови
перегаром борщом горохом
пахнет щедрый твой поцелуй
как ты любишь меня Эпоха
обожаю тебя
царуй!..»
Царь застыл – смурной, малахольный,
Царь взглянул с такой меланхолией,
Что присел заграничный гость,
Будто вбитый по шляпку гвоздь.
1961
Баллада точки
"Баллада? О точке?! О смертной пилюле?!."
Балда!
Вы забыли о пушкинской пуле!
Что ветры свистали, как в дыры кларнетов,
В пробитые головы лучших поэтов.
Стрелою пронзив самодурство и свинство,
К потомкам неслась траектория свиста!
И не было точки. А было - начало.
Мы в землю уходим, как в двери вокзала.
И точка тоннеля, как дуло, черна...
В бессмертье она?
Иль в безвестность она?..
Нет смерти. Нет точки. Есть путь пулевой -
Вторая проекция той же прямой.
В природе по смете отсутствует точка.
Мы будем бессмертны.
И это - точно!
Рублевское шоссе
Мимо санатория
Реют мотороллеры.
За рулем влюбленные –
Как ангелы рублевские.
Фреской Благовещенья,
Резкой белизной
За ними блещут женщины,
Как крылья за спиной!
Их одежда плещет,
Рвется от руля,
Вонзайтесь в мои плечи,
Белые крыла.
Улечу ли?
Кану ль?
Соколом ли?
Камнем?
Осень. Небеса.
Красные леса.
1962
Потерянная баллада
I
В час осенний,
сквозь лес опавший,
осеняюще и
в нас влетают, как семена,
чьи-то судьбы и имена.
Это Переселенье Душ.
В нас вторгаются чьи-то тени,
как в кадушках растут растенья.
В нервной клинике 300 душ.
Бывший зодчий вопит: «Я – Гойя».
Его шваброй на койку гонят.
А в ту вселился райсобес –
всем, раздаст и ходит без...
А пацанка сидит в углу.
Что таит в себе – ни гугу.
У ней – зрачки киноактрисы
косят,
как кисточки у рыси...
II
Той актрисе все опостылело,
как пустынна ее Потылиха!
Подойдет, улыбнуться силясь:
«Я в кого-то переселилась!
Разбежалась, как с бус стеклярус.
Потерялась я, потерялась!..»
Она ходит, сопоставляет.
Нас, как стулья, переставляет.
И уставится из угла,
как пустынный костел гулка.
Машинально она – жена.
Машинально она – жива.
Машинальны вокруг бутылки,
и ухмылки скользят обмылками.
Как украли ее лабазно!..
А ночами за лыжной базой
три костра она разожжет
и на снег крестом упадет
потрясенно и беспощадно
как посадочная площадка
пахнет жаром смолой лыжней
ждет лежит да снежок лизнет
самолет ушел – не догонишь
Ненайденыш мой, ненайденыш!
Потерять себя – не пустяк,
вся бежишь, как вода в горстях...
III
А вчера, столкнувшись в гостях,
я увижу, что ты – не ты,
сквозь проснувшиеся черты –
тревожно и радостно,
как птица, в лице твоем, как залетевшая
в фортку птица,
бьет пропавшая красота...
«Ну вот, – ты скажешь, – я и нашлась,
кажется...
в новой ленте играю... В 2-х сериях...
Если только первую пробу не зарубят!..»
1962
Противостояние очей
Третий месяц ее хохот нарочит,
третий месяц по ночам она кричит.
А над нею, как сиянье, голося,
вечерами
разражаются
Глаза!
Пол-лица ошеломленное стекло
вертикальными озерами зажгло.
...Ты худеешь. Ты не ходишь на завод,
ты их слушаешь,
как лунный садовод,
жизнь и боль твоя, как влага к облакам,
поднимается к наполненным зрачкам.
Говоришь: «Невыносима синева!
И разламывает голова!
Кто-то хищный и торжественно-чужой
свет зажег и поселился на постой...»
Ты грустишь – хохочут очи, как маньяк.
Говоришь – они к аварии манят.
Вместо слез –
иллюминированный взгляд.
«Симулирует», – соседи говорят.
Ходят люди, как глухие этажи.
Над одной горят глаза, как витражи.
Сотни женщин их носили до тебя,
сколько муки накопили для тебя!
Раз в столетие
касается
людей
это Противостояние Очей!..
...Возле моря отрешенно и отчаянно
бродит женщина, беременна очами.
Я под ними не бродил,
за них жизнью заплатил.
1962
Осень в Сигулде
Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,
прощай, мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте,
леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку – унесли,
мы – люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
так уж положено,
из стен,
матерей
и из женщин,
и этот порядок извечен,
прощай, моя мама,
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день
присядем,
друзья и враги, бывайте
гуд бай,
из меня сейчас
со свистом вы выбегайте,
и я ухожу из вас.
о родина, попрощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка,
спасибо, жизнь, что была,
на стрельбищах
в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что
в прозрачные мои лопатки
входило прозренье, как
в резиновую
перчатку
красный мужской кулак,
«Андрей Вознесенский» – будет,
побыть бы не словом, не бульдиком,
еще на щеке твоей душной –
«Андрюшкой»,
спасибо, что в рощах осенних
ты встретилась, что-то спросила
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо,
я ожил, спасибо за осень,
что ты мне меня объяснила,
хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло басила
пластинка блатного пошиба,
спасибо,
но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь...
из пор моих полых уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неугоден?
ты рядом и где-то далеко,
почти что у Владивостока,
я знаю, что мы повторимся
в друзьях и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот –
«природа боится пустот»,
спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы – спасибо,
но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном...
Спасите!
1961
Лонжюмо
ПоэмаАвиавступление
Посвящается слушателям
школы Ленина в Лонжюмо
школы Ленина в Лонжюмо
Вступаю в поэму, как в новую пору вступают.
Работают поршни,
соседи в ремнях засыпают,
Ночной папироской
летят телецентры
за Муром,
Есть много вопросов.
Давай с тобой, Время,
покурим.
Прикинем итоги.
Светло и прощально
горящие годы, как крылья, летят за плечами.
И мы понимаем, что канули наши кануны,
что мы, да и спутницы наши, –
не юны,
что нас провожают
и машут лукаво
кто маминым шарфом, а кто –
кулаками...
Земля,
ты нас взглядом апрельским проводишь,
лежишь на спине, по-ночному безмолвная.
По гаснущим рельсам
бежит
паровозик,
как будто
сдвигают
застежку
на «молнии»
Россия, любимая,
с этим не шутят.
Все боли твои – меня болью пронзили.
Воссия,
я – твой капиллярный
сосудик,
мне больно когда –
тебе больно, Воссия.
Как мелки отсюда успехи мои,
неуспехи,
друзей и врагов кулуарных ватаги.
Прости меня,
Время,
что много сказать
не успею.
Ты, Время, не деньги,
но тоже тебя не хватает.
Но люди уходят, врезая в ночные
отроги
дорог своих
огненные автографы!
Векам остаются – кому как удастся –
штаны – от одних,
от других – государства.
Его различаю.
Пытаюсь постигнуть,
Чем был этот голос с картавой пластинки.
Дай, Время, схватить этот профиль,
паривший
в записках о школе его под Парижем.
Прости мне, Париж, невоспетых
красавиц.
Россия,
прости незамятые тропки.
Простите за дерзость,
что я этой темы
касаюсь,
простите за трусость,
что я ее раньше
не трогал.
Вступаю в поэму. А если сплошаю,
прости меня, Время, как я тебя часто
прощаю.
Струится блокнот под карманным
фонариком.
Звенит самолет не крупнее комарика.
А рядом лежит
в облаках алебастровых
планета –
как Ленин,
мудра и лобаста.
I
В Лонжюмо сейчас лесопильня.
В школе Ленина? В Лонжюмо?
Нас распилами ослепили
бревна, бурые, как эскимо.
Пилы кружатся. Пышут пильщики.
Под береткой, как вспышки, – пыжики.
Через джемперы, как смола,
чуть просвечивают тела.
Здравствуй, утро в морозных дозах!
Словно соты, прозрачны доски.
Может, солнце и сосны – тезки?!
Пахнет музыкой. Пахнет тесом.
А еще почему-то – верфью,
а еще почему-то – ветром,
а еще почему не знаю –
диалектикою познанья!
Обнаруживайте древесину
под покровом багровой мглы.
Как лучи из-под тучи синей,
бьют
опилки
из-под пилы!
Добирайтесь в вещах до сути.
Пусть ворочается сосна,
словно глиняные сосуды,
солнцем полные дополна.
Пусть корою сосна дремуча,
сердцевина ее светла –
вы терзайте ее и мучайте,
чтобы музыкою была!
Чтобы стала поющей силищей
корабельщиков, скрипачей...
Ленин был
из породы
распиливающих,
обнажающих суть
вещей.
II
Врут, что Ленин был в эмиграции.
(Кто вне родины – эмигрант.)
Всю Россию,
речную, горячую,
он носил в себе, как талант!
Настоящие эмигранты
пили в Питере под охраной,
воровали казну галантно,
жрали устрицы и гранаты –
эмигранты!
Эмигрировали в клозеты
с инкрустированными розетками,
отгораживались газетами
от осенней страны раздетой,
в куртизанок с цветными гривами –
эмигрировали!
В драндулете, как чертик в колбе,
изолированный, недобрый,
средь великодержавных харь,
среди ряс и охотнорядцев,
под разученные овации
проезжал глава эмиграции –
Царь!
Эмигранты селились в Зимнем.
А России
сердце само –
билось в городе с дальним именем
Лонжюмо.
III
Этот – в гольф. Тот повершен бриджем.
Царь просаживал в «дурачки»...
...Под распарившимся Парижем
Ленин
режется
в городки!
Раз! – распахнута рубашка,
раз! – прищуривался глаз,
раз! – и чурки вверх тормашками
(жалко, что не видит Саша!) –
Рраз!
Рас-печатывались «письма»,
раз-летясь до облаков, –
только вздрагивали бисмарки
от подобных городков!
Раз! – по тюрьмам, по двуглавым –
ого-го! –
Революция играла
озорно и широко!
Раз! – врезалась бита белая,
как авроровский фугас –
так что вдребезги империи,
церкви, будущие берии –
Раз!
Ну играл! Таких оттягивал
«паровозов»! Так играл,
что шарахались рейхстаги
в 45-м наповал!
Раз!..
...а где-то в начале века
человек, сощуривши веки,
«Не играл давно» – говорит.
И лицо у него горит.
IV
В этой кухоньке скромны тумбочки,
и, как крылышки у стрекоз,
брезжит воздух над узкой улочкой
Мари-Роз,
было утро, теперь смеркается,
и совсем из других миров
слышен колокол доминиканский,
Мари-Роз,
прислоняюсь к прохладной раме,
будто голову мне нажгло,
жизнь вечернюю озираю
через ленинское стекло,
и мне мнится – он где-то спереди,
меж торговок, машин, корзин,
на прозрачном велосипедике
проскользил,
или в том кабачке хохочет,
аплодируя шансонье?
или вспомнил в метро грохочущем
ослепительный свист саней?
или, может, жару и жаворонка?
или в лифте сквозном парит,
и под башней ажурно-ржавой
запрокидывается Париж –
крыши сизые галькой брезжат,
точно в воду погружены,
как у крабов на побережье,
у соборов горят клешни,
над серебряной панорамою
он склонялся, как часовщик,
над закатами, над рекламами,
он читал превращенья их,
он любил вас, фасады стылые,
точно ракушки в грустном стиле,
а еще он любил Бастилию –
за то, что ее срыли!
И сквозь биржи пожар валютный,
баррикадами взвив кольцо,
проступало ему Революции
окровавленное
лицо,
и глаза почему-то режа,
сквозь сиреневую майолику
проступало Замоскворечье,
все в скворечниках и маевках,
а за ними – фронты, юденичи,
Русь ревет со звездой на лбу,
и чиркнет фуражкой студенческой
мой отец на кронштадтском льду,
вот зачем, мой Париж прощальный,
не пожар твоих маляров –
славлю стартовую площадку
узкой улочки Мари-Роз!
Он отсюда
мыслил
ракетно.
Мысль его, описав дугу,
разворачивала
парапеты
возле Зимнего на снегу!
(Но об этом шла речь в строках
главки 3-й, о городках.)
V
В доме позднего рококо
спит, уткнувшись щекой в конспекты,
спит, живой еще, невоспетый
Серго,
спи, Серго, еще раным-рано,
зайчик солнечный через раму
шевелится в усах легко,
спи, Серго,
спи, Серго в васильковой рубашечке,
ты чему во сне улыбаешься?
Где-то Куйбышев и Менжинский
так же детски глаза смежили.
Что вам снится? Плотины Чирчика?
Первый трактор и кран с серьгой?
Почему вы во сне кричите,
Серго?!
Жизнь хитра. Не учесть всего.
Спит Серго, коммунист кремневый.
Под широкой стеной кремлевской
спит Серго.
VI
Ленин прост – как материя,
как материя –
сложен.
Наш народ – не тетеря,
чтоб кормить его с ложечки!
Не какие-то «винтики»,
а мыслители,
он любил ваши митинги,
Глебы, Вани и Митьки.
Заряжая ораторски
философией вас,
сам,
как аккумулятор,
заряжался от масс.
Вызревавшие мысли
превращались потом
в «Философские письма»,
в 18-й том.
Его скульптор лепил.
Вернее,
умолял попозировать он,
перед этим, сваяв Верлена,
их похожестью потрясен,
бормотал он оцепенело?
«Символическая черта!
У поэтов и революционеров
одинаковые черепа!»
Поэтично кроить вселенную!
И за то, что он был поэт,
как когда-то в Пушкина -
в Ленина
бил отравленный пистолет!
VII
Однажды, став зрелей, из спешной повседневности
мы входим в Мавзолей,
как в кабинет рентгеновский,
вне сплетен и легенд, без шапок, без прикрас,
и Ленин, как рентген, просвечивает нас.
Мы движемся из тьмы, как шорох кинолентин:
«Скажите, Ленин, мы – каких Вы ждали, Ленин?!
Скажите, Ленин, где
победы и пробелы?
Скажите – в суете мы суть не проглядели?..»
Нам часто тяжело. Но солнечно и страстно
прозрачное чело горит лампообразно.
«Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает?»
И Ленин
отвечает.
На все вопросы отвечает Ленин.
1962-1963
Мастера
Поэма из семи глав с реквиемом и посвящениямиПервое посвящение
Колокола, гудошники...
Звон. Звон...
Вам,
Художники
Всех времен!
Вам,
Микеланджело,
Барма, Дант!
Вас молниею заживо
Испепелял талант»
Ваш молот не колонны
И статуи тесал –
Сбивал со лбов короны
И троны сотрясал.
Художник первородный –
Всегда трибун.
В нем дух переворота
И вечно – бунт.
Вас в стены муровали.
Сжигали на кострах.
Монахи муравьями
Плясали на костях.
Искусство воскресало
Из казней и из пыток
И било, как кресало,
О камни Моабитов.
Кровавые мозоли.
Зола и пот.
И музу, точно Зою,
Вели на эшафот.
Но нет противоядия
Ее святым словам –
Воители,
ваятели,
Слава вам!
Второе посвящение
Москва бурлит, как варево,
Под колокольный звон...
Вам,
Варвары
Всех времен!
Цари, тираны,
В тиарах яйцевидных,
В пожарищах-сутанах
И с жерлами цилиндров!
Империи и кассы
Страхуя от огня,
Вы видели в Пегасе
Троянского коня.
Ваш враг – резец и кельма.
И выжженные очи,
Как
Клейма,
Горели среди ночи.
Вас мое слово судит.
Да будет – срам,
Да
Будет
Проклятье вам!
I
Жил-был царь.
У царя был двор.
На дворе был кол.
На колу не мочало –
Человека мотало!
Хвор царь, хром царь,
А у самых хором ходит вор и бунтарь.
Не туга мошна,
Да рука мощна!
Он деревни мутит.
Он царевне свистит.
И ударил жезлом
и велел государь,
Чтоб на площади главной
Из цветных терракот
Храм стоял семиглавый – =
Семиглавый дракон.
Чтоб царя сторожил.
Чтоб народ страшил.
II
Их было смелых – семеро,
Их было сильных – семеро,
Наверно, с моря синего
Или откуда с севера,
Где Ладога, луга,
Где радуга-дуга.
Они дожили кладку
Вдоль белых берегов,
Чтоб взвились, точно радуга,
Семь разных городов.
Как флаги корабельные,
Как песни коробейные.
Один – червонный, башенный,
Разбойный, бесшабашный.
Другой – чтобы, как девица,
Был белогруд, высок.
А третий – точно деревце,
Зеленый городок!
Узорные, кирпичные,
Цветите по холмам...
Их привели опричники,
Чтобы построить храм.
III
Кудри – стружки,
Руки – на рубанки.
Яростные, русские,
Красные рубахи.
Очи – ой, отчаянны!
При подобной силе –
Как бы вы нечаянно
Царство не спалили!..
Бросьте, дети бисовы,
Кельмы и резцы.
Не мечите бисером
Изразцы.
IV
Не памяти юродивой
Вы возводили храм,
А богу плодородия,
Его земным дарам.
Здесь купола – кокосы,
И тыквы – купола.
И бирюза кокошников
Окошки оплела.
Сквозь кожуру мишурную
Глядело с завитков,
Что чудилось Мичурину
Шестнадцатых веков.
Диковины кочанные,
Их буйные листы,
Кочевников колчаны
И кочетов хвосты.
И башенки буравами
Взвивались по бокам,
И купола булавами
Грозили облакам!
И москвичи молились
Столь дерзкому труду
Арбузу и маису
В чудовищном саду.
V
Взглянув на главы-шлемы,
Боярин рек:
– У, шельмы,
В бараний рог!
Сплошные перламутры –
Сойдешь с ума.
Уж больно баламутны
Их сурик и сурьма...
Купец галантный,
Куль голландский,
Шипел: – Ишь надругательство,
Хула и украшательство.
Нашел уж царь работничков –
Смутьянов и разбойничков!
У них не кисти,
А кистени.
Семь городов, антихристы,
Задумали они.
Им наша жизнь – кабальная,
Им Русь – не мать!
...А младший у кабатчика
Все похвалялся, тать,
Как в ночь перед заутреней,
Охальник и бахвал,
Царевне
Целомудренной
Он груди целовал...
И дьяки присные,
Как крысы по углам,
В ладони прыснули:
– Не храм, а срам!..
...А храм пылал в полнеба,
Как лозунг к мятежам,
Как пламя гнева –
Крамольный храм!
От страха дьякон пятился,
В сундук купчина прятался.
А немец, как козел,
Скакал, задрав камзол.
Уж как ты зол,
Храм антихристовый!..
А мужик стоял да подсвистывал,
Все посвистывал, да поглядывал,
Да топор
рукой все поглаживал...
VI
Холод, хохот, конский топот да собачий звонкий лай.
Мы, как дьяволы, работали, а сегодня – пей, гуляй!
Г уляй!
Девкам юбки заголяй!
Эх, на синих, на глазурных да на огненных санях...
Купола горят глазуньями на распахнутых снегах.
Ах! –
Только губы на губах!
Мимо ярмарок, где ярки яйца, кружки, караси.
По соборной, по собольей, по оборванной Руси –
Эх, еси –
Только ноги уноси!
Завтра новый день рабочий грянет в тысячу ладов.
Ой вы, плотнички, пилите тес для новых городов.
Го-ро-дов?
Может, лучше – для гробов?..
VII
Тюремные стены.
И нем рассвет.
А где поэма?
Поэмы – нет.
Была в семь глав она –
Как храм в семь глав.
А нынче безгласна –
Как лик без глаз.
Она у плахи.
Стоит в ночи.
. . . . . . . . . . .
И руки о рубахи
Отерли палачи.
Реквием
Вам сваи не бить, не гулять по лугам.
Не быть, не быть, не быть городам!
Узорчатым башням в тумане не плыть.
Ни солнцу, ни пашням, ни соснам – не быть!
Ни белым, ни синим – не быть, не бывать.
И выйдет насильник губить-убивать.
И женщины будут в оврагах рожать,
И кони без всадников – мчаться и ржать.
Сквозь белый фундамент трава прорастет.
И мрак, словно мамонт, на землю сойдет.
Растерзанным бабам на площади выть.
Ни белым, ни синим, ни прочим – не быть!
Ни в снах, ни воочию – нигде, никогда...
Врете,
сволочи,
Будут города!
Над ширью вселенской
В лесах золотых
Я,
Вознесенский,
Воздвигну их!
Я – парень с Калужской,
Я явно не промах.
В фуфайке колючей,
С хрустящим дипломом.
Я той же артели,
Что семь мастеров.
Бушуйте в артериях,
Двадцать веков!
Я тысячерукий –
руками вашими,
Я тысячеокий –
очами вашими.
Я осуществляю в стекле и металле,
О чем вы мечтали,
о чем – не мечтали...
Я со скамьи студенческой
мечтаю, чтобы зданья
ракетой
стоступенчатой
взвивались
в мирозданье!
И завтра ночью тряскою
в 0.45
я еду
Братскую
осуществлять!..
...А вслед мне из ночи
Окон и бойниц
Уставились очи
Безглазых глазниц.
1959