Стихотворения
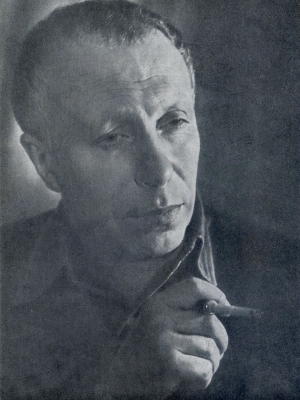
Содержание
- Евгений Евтушенко. Одной-единой страсти ради (О лирике Александра Межирова)
- ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТЕНА
- Баллада о цирке
- «Мы просыпались в сумраке мглистом...»
- «Одиночество гонит меня...»
- Отец
- «Нехорошо поговорил...»
- Любимая песня
- Посвящение
- Песня доверья
- Учитель
- «Тишайший снегопад...»
- Ветровое стекло
- «Я люблю — и ты права...»
- Море
- Городок
- Прощание с Кармен
- Будильник
- «Арбат — одна из самых узких улиц...»
- Бессонница
- Листопады
- Соседи
- «Этот город, как колокол-сплетник...»
- «Ты не напрасно шла со мною...»
- Февраль
- «Мне комнаты в привычку обживать...»
- «Возле трех вокзалов продавали...»
- «Подкова счастья!..»
- «От зноя и от пыли...»
- «Стоял над крышей пар...»
- Споры
- Возраст
- «Наедине с самим собой...»
- Проводы
- «Паровозного пара шквалы..»
- Ночь
- Календарь
- Медальон
- «О войне ни единого слова...»
- Саратов
- Музыка
- Этот год
- Прощание со снегом
- Мастера
- «Касторкой пахнет!..»
- «Обескрылен, ослеп и обезголосел...»
- «Москва. Мороз. Россия...»
- К морю
- Часы
- Защитник Москвы
- Женщины
- «Просыпался от лопат...»
- Станислава
- «Все приходит слишком поздно...»
- «Впервые в жизни собственным умом...»
- «Моя рука давно отвыкла...»
- Напутствие
- Ребро
- «Спокойно спал в больших домах в Москве...»
- Потолок
- Монолог, обращенный к хирургу
- Балетная студия
- «Верийский спуск в снегу...»
- «Как ни мудри и что ни говори...»
- «Все разошлись и вновь пришли...»
- Желтый цвет
- «Какие-то запахи детства стоят...»
- Два отрывка
- С войны
- Отпускник
- Эшелон
- «Две книги у меня...»
- Разговор с отцом
- Десантники
- Привычка
- Путь
- «Дитя прекрасно...»
- «Не обладаю правом впасть в обиду...»
- Монолог нравоучительный
- Оттепель
- «Зачем, зачем нам обживать...»
- Из дневника
- Страх
- Рим. Одиннадцать часов
- «Споры, свары, пересуды...»
- Скорая помощь
- «Твой дом стоит на берегу Москвы...»
- «Дагмара в Индии живет...»
- Соната
- Люди сентября
- «Спит на паперти калека...»
- Починка
- «В дом с мороза входит Леша...»
- Закрытый поворот
- «Снится, что умираю...»
- «Порядок жизни суетно-неистов...»
- Надпись на книге
- «Что-то дует в щели...»
- На полях перевода
- «Запретный Плод, не сорванный никем...»
- «Смена смене идет...»
- «В отрезке от шести и до восьми...»
- Новый возраст
- Серпухов
- Баллада возраста
- Предвоенная баллада
- За Ладогой
- «Ну, а дальше что?..»
- «Полумужчины, полудети...»
- На всякий случай
- А там все так же море бьет
- Голос Руставели у стен Крестового монастыря
- Голос Руставели в Белой келье
- Телефон
- «Отненавидели и отлюбили...»
- Музы
- Вильнюс
- Чернигов
- «Все то, что Гёте петь любовь заставило...»
- Шахматист
- «Нисходит и к нам благодать временами...»
- Иркутск
- Роден
- Обзор
- Браслет
- Штраф
- «В руинах Рим...»
- Монолог художницы
- Объяснение в любви
- Памяти ушедшей
- «Люди, люди мои!..»
- Тбилиси. Цех
- «На заснеженном вокзале...»
- «В жизни парка наметилась веха...»
- Успех
- Над домом
- «Неровный строй домов сутулых...»
- Черкешенка
- Аттракцион
- В блокаде
- «Просыпаюсь и курю...»
- ИЗ РАННИХ СТИХОВ
- Воспоминание о пехоте
- Ладожский лед
- «Человек живет на белом свете...»
- Стихи о мальчике
- Утром
- Коммунисты, вперед!
- Первый день
- Стихи о том, как сын стал солдатом
- Снова луг зарастает травой
- На зимнем полустанке
- Вес верст (Из поэмы)
- На рубежах (Поэма)
- Невский
- Песня
- Ночь I
- Рука Назарова
- Так уходили в бой
- Друзьям
- Костер
- В День Победы
- Эта весна
- После войны
- Возвращение
- Плыл плавный дождь
- Линия жизни
- Рассвет этой осени
- Прошла война
- Сегодня дождь
- Баллада о взводном
- Вступление в поэму
- 2-й монолог
- «После боя в замершем Берлине...»
- «Дорога, на бугры взлетая...»
- Тревога
- Грядущий город
- Ленинградец
- «Крытый верх у полуторки этой...»
- Прощай, оружие!
- «Когда-нибудь, лет через тридцать пять...»
- Памяти друга
- Годы Чкалова (Из поэмы)
- «Пусть век мой недолог...»
- В комсомольском полку перед боем
- Надпись на книге П. Шубина «Парус»
- Елена
- «Ливня июньского мокрые плети...»
- Песенка Сагурамо
- Твердыня
- Слово на кахетинском празднике
- Два стихотворения
- «На пыльном базаре вода из колонки...»
- «Мы звезды ловили, — я пальцы обжег...»
- Грузинский танец с мечами
- Миг
- «Я по утрам ищу твои следы...»
- «Все выдумал...»
- Горы
- Медведь
- «Две стены, окно и дверь...»
- «Как же мог умолчать я об этом...»
- «Я хочу сообщить...»
- Сон
- «Что мне делать в «стреле»...»
Александр Межиров формировался как человек и поэт в годы Великой Отечественной войны. Его личная судьба неотделима от судьбы Родины, от судьбы современников. Со школьной скамьи — на фронт; ранение, госпиталь, и снова фронт. В 1947 году появился его первый поэтический сборник «Дорога далека». Вошедшие в него «Стихи о мальчике», «Ладожский лед», «Вес верст», «Друзьям», «На рубежах» — достоверная летопись войны. С тех пор прошло четверть века, поэт выпустил много книг: «Ветровое стекло», «Прощание со снегом», «Подкова», «Лебяжий переулок», «Поздние стихи» и другие. И всегда — в любовную лирику, в глубокие раздумья о времени и о себе, о назначении поэта — вплетаются стихи, продолжающие военную тему, философски осмысляющие пережитое. Однотомник вобрал то лучшее, что создал Александр Межиров за двадцать пять лет поэтической деятельности.
ОДНОЙ-ЕДИНОЙ СТРАСТИ РАДИ
Посмотришь — и думаешь: страшно попасть
В такую вот переделку, —
вносили некую особую ноту в тему возвращения -с войны, в тему победителей. Уже в первой книге Межирова «Дорога далека» (1947) проявилась склонность его к размышлению не только над смыслом жизни, но и над смыслом -смерти, боязнь бездуховного физиологического счастья, отрешенность от скороговорочных признаний в любви к окружающему. В поэтах-фронтовиках, еще недавних мальчишках, -сквозило естественное для их возраста желание казаться более резкими, более матерыми, чем они были на самом деле. Интеллигентности как бы стеснялись. «Стихотворению форма нужна простая, как на красноармейце», — писал Луконин. Но из-под серошинельной формы межировской книги «Дорога далека» предательски торчал белый отложной воротничок мальчика из «Лебяжьего переулка». Самораскрытие было непроизвольным, может быть, даже противожеланным, но все-таки даже противожеланная искренность, в конечном счете, плодотворней нарочитости. Отличие Межирова от сверстников было и в том, что он не чурался чуть ли не дитатно обнаруживать следы влияния других поэтов в своих стихах и учился не у какого-либо одного поэта, с его определенной манерой, а сразу у многих, даже, казалось бы, взаимоисключающих. Но это не упрек во всеядности. Ученичество у Межирова сводилось не к примериванию чужих лиц, а к проникновению в глубь чужих лиц, что помогло открытию лица собственного. «Необщее выраженье» лица начало проступать у Межирова еще в первых стихах. Казалось, не хватает чуть-чуть большей обозначенности и оно вот-вот определится. Но дорога к себе далека. Однажды Межиров грустно оказал мне, тогда еще совсем зеленому юнцу, радостно манипулирующему пустотелыми гирями риторики: «Не плати по оплаченным счетам, Женя...» Судьбы поэтов старшего поколения для входящих в поэзию во все времена должны быть не только примерами, но и серьезными предупреждениями. К чести Межирова, он сам сделал свой опыт предупреждением, обращенным к молодым поэтам. То, что произошло с Межировым после первой его книги, никто лучше не выразил, чем это сделал он сам в хирургической по точности и мужеству стихотворной автобиографии.
Две книги у меня.
Одна
«Дорога далека».
Война.
Другую «Ветровым стеклом»
Претенциозно озаглавил
И в ранг добра возвел, прославил
То, что на фронте было злом.
А между ними пустота —
Тщета газетного листа...
«Дорога далека» была
Оплачена страданьем плоти, —
Она в дешевом переплете
По кругам пристальным пошла.
Другую выстрадал сполна
Духовно.
В ней опять война.
Плюс полублоковская вьюга.
Подстрочники. Потеря друга.
Позор. Забвенье. Тишина.
(«Две книги у меня...»)
На такую безжалостность, пожалуй, не решился ни один из сверстников Межирова. В этом постоянном стремлении к самобезжалостности и есть коренное отличие Межирова от многих поэтов, когда-то казавшихся неразрывно едиными на гребне исторических событий. После книги «Дорога далека» судьба Межирова складывалась драматически. Самовскрытие сменилось самозакрытпем. Он строго воспитывает себя, как профессионал, с презрением относясь к спекулирующим дилетантам. Межиров не идеализирует профессионализм как таковой.
Валяется сапожник, пьяный в дым.
Жена честит бродягу так и этак.
И все-таки:
Но как уланы под Бородиным,
Стоят подметки на моих штиблетах.
(«Починка»)
Но профессионализм лишь часть призвания, и даже великолепно поставленное дыхание при отсутствии живого воздуха обрекает на смерть. Межиров — прекрасный строймастер. В его поэтических зданиях не найдешь незациклеванных полов, разводов на потолках, топорщащихся безвкусных обоев, но из многих его послевоенных зданий как будто вытянут воздух, и там нечем дышать. Межировскии стих не размякал, как у многих, но казалось, что если постучать по нему, то в звуке будет нечто от сухой штукатурки, скрывающей пустоту в простенке.
Мой взводный живет на Фонтанке,
Он пишет картину о том,
Как шли в наступление танки,
Ревя на подъеме крутом.
А солнце горело в зените
И сквозь цеховое окно
Нагрело суровые нити
На фабрике «Веретено».
(«Баллада о взводном»)
Профессионализм в поэтической жизни Межирова стал оттеснять в сторону призвание. Угроза версификаторства усугубилась тем, что Межиров долгие годы занимался переводами. И, несмотря на то что у Межирова были случаи счастливого, творческого взаимообмена с грузинскими и литовскими поэтами, кипы посредственных подстрочников начали придавливать его собственные стихи. Набитая рука привыкла к внешней поэтизации студенистой массы. Когда та же самая рука бралась за иной перевод — с подстрочника собственной души, — то руку клонило в привычную сторону среднеарифметической поэтичности, хотя в данном случае «подстрочник» был наверняка незаурядный. И все-таки истинно поэтическое призвание Межирова победило в сражении с профессионализмом, и победило не дилетантски, а профессионально. Иногда, правда, даже в последних стихах Межирова чувствуется непреодоленный налет версификаторства: в красивоватых внутренних рифмах «Обо всем, что тебя надломило, обо всем, что не мило тебе», «В Туапсе начиналось море и кончалось горе мое», «Нет, не этим — не блеском, не плеском», в недорогостоящих псевдопоэтических пасах: «В дни, когда изнывал я от жажды, изнывала от жажды и ты», «Прощайте, ненужные вещи, — о, как вы мне были нужны», в высокопарном самонакручивании: «И приснится, как в черной могиле, в Чиатурах, под песню и стон, хоронили меня, хоронили рядом с молнией черной, как сон», в бальмонтовском самоукачивании: «Лей слезы, лей... Но ото всех на свете обид и бед земных и ото всех скорбей — зеленый скарабей в потомственном браслете, зеленый скарабей, зеленый скарабей». Но все это побеждено властным и, я бы сказал, отважным, лирическим реализмом самобезжалостности. И это не бесплодное ковыряние в психологических закоулках собственной души, а нравственное самоочищение, теперь уже оснащенное опытом зрелости. Пожалуй, ни один из наших современных поэтов с такой обнаженностью не писал об одиночестве. Не о том одиночестве, что порождается в мире, где главенствует мораль «человек человеку — волк», а об одиночестве, которое необходимо, когда ведется бой с самим собой, или об одиночестве творца, вынашивающего свой, понятный еще только ему замысел. Моменты такого одиночества — не что иное, как моменты тайной связи внутреннего мира с внешним или моменты поисков этой связи. Писать правду о своем одиночестве — это уже преодоление своего одиночества.
Одиночество гонит меня
В путь-дорогу,
В сумрак ночи и в сумерки дня.
Есть товарищи у меня,
Слава богу!
Есть товарищи у меня.
(«Одиночество гонит меня...»)
Последняя строчка скорей не констатация, а надежда, но в надежде подчас больше силы, чем в констатации. И если порой человеку одиноко, то он не должен забывать, что собственная совесть — это тоже надежный товарищ, а совесть и смелость почти синонимы. Поэтическую смелость иногда понимают как применение озадачивающих метафор, сногсшибательных рифм, ритмической супермодерной какофонии или, наоборот, как «мужественно противопоставленную модерну простоту», которая на деле хуже воровства. Но подлинная поэтическая смелость начинается не с безжалостности к традициям, не с безжалостности к нарушителям таковых, вообще не с безжалостности, направленной вовне, а именно с самобезжалостноети. И эта подлинная смелость и есть то распятие, ва которое Межиров сам себя обрек. Посмотрите, сколько самобезжалостности в книге:
Прости меня
за леность
Непрощенных дорог,
За жалкую нетленность
Полупонятных строк.
(«Отец»)
...Обеокрылел,
ослеп
и обезголосел, —
Мне искусство больше не по плечу.
Жизнь,
открой мне тайны своих ремесел, —
Быть причастным таинству
я
не хочу.
(«Обескрылел, ослеп и обезголосел...»)
...Все моря перешел.
И по суше
набродился.
Дорогами сыт!
И теперь, вызывая удушье,
комом в горле пространство стоит.
(«Люди, люди мои...»)
От понедельника до субботы,
От новогодья до ноября;
Эти свистящие повороты,
Все вхолостую, впустую, зря.
(«Мы просыпались в сумраке мглистом...»)
Самоанализа многие поэты избегают — иногда, возможно, из-за боязни обвинении в самокопании, иногда, возможно, из-за того, что и анализировать-то почти нечего. Но только самоанализ дает право на анализ мира объективного, ибо все поэтические призывы к совершенствованию бытия мало чего стоят без попытки самоусовершенствования. Строки Межирова:
До тридцати — поэтом быть почетно
И срам кромешный — после тридцати, —
конечно, нельзя понимать буквально. В них, скорее, есть мучительный вопрос. В его самоанализе проявляется отнюдь не мелкое самокопание, а черты духовной концентрации, ведущей к нравственному обновлению. Пример тому — книга Межирова «Последние стихи» (1971), где даже известные ранее стихи впервые так цельно сфокусировались. Я не слишком доверяю сентиментальному термину «вторая молодость». Речь идет о новом качестве зрелости. О Межирове в основном писали как о поэте военной темы. На самом деле, как показывает его поздняя лирика, он представляет собой гораздо большее явление, хотя постоянное возвращение к фронтовым истокам служило и служит моральным спасением в преодолении одиночества.
Воспоминанье двигалось, виясь,
Во тьме кромешной и при свете белом,
Между Войной и Миром — грубо, в целом —
Духовную налаживая связь.
(«В отрезке от шести и до восьми...»)
Удивительные по достоверности стихи «С войны», «Мы под Колшшом скопом стоим...», «Календарь», несмотря на то что они написаны о войне, не ограничены временной локальностью, а распространимы на всю жизнь. Одно из самых сильных произведений Межирова — «Баллада о цирке». Баллада похожа на поэму с потерянными главами, где, возможно, уточнялось, почему именно поэт «той войны, той приснопамятной волны» «обезголосел, охладел» и снова вернулся к мотогонкам па вертикальной стене. Сквозь легкий флер мистификации темы вертикальной стены проступает тема «пового круга дантовского ада».
Вопрос пробуждения совести
заслуживает романа.
Но я ни романа, ни повести
об этом не напишу.
Руль мотоцикла,
кривые рога «Индиана» —
В правой руке,
Успевшей привыкнуть к карандашу.
А левой прощаюсь, машу...
Я больше не буду
присутствовать на обедах,
Которые вы
задавали в мою честь.
Я больше не стану
вашего хлеба есть.
Об этом я и хотел сказать.
Напоследок.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Он стар, наш номер цирковой,
Его давно придумал кто-то, —
Но это все-таки работа,
Хотя и книзу головой.
. . . . . . . . . . . . . . . .
По совместительству, к несчастью,
Я замещаю зав литчастью.
По сравнению со стихами некоторых поэтов, взвинчивающих себя до истерической самоисступленности и таким образом создающих видимость темперамента, это выглядит несколько суховато. Но, может быть, истинный темперамент скрывается иногда именно в сдержанности? Самобезжалостность Межирова дает ему право не безжалостность, направленную вовне. Но каков же адрес этой безжалостности?
Бестолково заводят машину.
Тарахтенье уснуть не дает.
Тишину истязают ночную
Так, что кругом идет голова.
Хватит ручку крутить заводную,
Надо высушить света сперва!
(«Бессонница»)
Презренье профессионала к дилетантам. Что ж, оправданное прозренье...
Этот город, как колокол-сплетник,
Всюду радость мою раззвонил,
Чувств моих но жалея последних,
Клокотал, выбивался из сил.
(«Этот город...»)
Ненависть к соглядатаям, к сплетникам, превращающим чужую трагедию в собственное садистическое развлечение. Что ж, оправданная ненависть.
Набравшись вдоволь светскости и силы,
Допив до дна крепленое вино,
Артельщики, завмаги, воротилы
Вернулись на Столешников давно.
(«Люди сентября»)
Раздражение против «совмещанства», о котором Маяковский еще в двадцатых годах писал: «Товарищи! Головы канарейкам сверните, чтоб коммунизм канарейками не был побит». Что ж, оправданное раздражение. А вот уже блестящий гротесковый монолог «завмагов от искусства»:
В жизни парка наметилась веха,
Та, которую век предрекал:
Ремонтируем комнату смеха,
Выпрямляем поверхность зеркал.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Пусть не слишком толпа веселится,
Перестанет бессмысленно ржать, —
Современников доблестных лица
Никому но дадим искажать!
(«В жизни парка...»)
Написано резко, с ядовитой безжалостностью. Что ж, и это оправдано. И все же, если адрес самобезжалостности у Межирова всегда точен, то адрес его безжалостности, направленной вовне, иногда весьма расплывчат и поэтому двусмыслен. Таковы стихи о мастере, в ужасе наблюдающем поведение «буратин, матрешек и петрушек», сделанных его руками. Тема разве лишь для легкого бурлескного проигрыша по клавишам, а вовсе не для трагического нажатия на педали неуместного в данном случае погребального органа. В стихотворении «Музы» желчность приобретает еще более мелочный, фельетонный характер, что противоречит сущности лучших стихов Межирова. Вообще, сила Межирова не там, где он пытается поверить алгеброй гармонию бытия, а там, где видит бытие во всей совокупности его, подчас в жестоких деталях:
Споры, свары, пересуды,
Козни, заговор, комплот.
Страх перед мытьем посуды
Женские сердца гнетет.
(«Споры, свары, пересуды...»)
Как вы топали по коридорам,
Как подслушивали под дверьми,
Представители мира, в котором
Людям быть не мешало б людьми.
Но эта жестокость бытия не ожесточает поэта, и даже в его несколько язвительной усмешке чувствуется «к людям на безлюдье неразделенная любовь».
Помню всех — и великих и сирых, —
Всеми вами доволен вполне.
Запах жареной рыбы в квартирах
Отвращенья не вызвал во мне.
(«Люди, люди мои...»)
Сквозь все поздние стихи проходит тема ответственности перед миром — перед товарищами по войне, перед отцом и няней, перед любимой, перед самим собой. Порой, обращаясь к этим дорогим образам, поэт, умеющий быть желчным, становится даже сентиментальным.
О, этих рук суровое касанье,
Сердца большие, полные любви.
Саратовские хмурые крестьяне,
Товарищи любимые мои!
(«Саратов»)
Родина моя, Россия...
Няня, Дуня, Евдокия...
(«Серпухов»)
Тут неожиданно даже чувствуется что-то непрофессиональное. Но слишком мастерски сколоченный стих бывает иногда оскорбителен по отношению к чужой и собственной боли, и в ряде случаев предпочтительнее недостаток профессионализма его избытку. И, может быть, забвение о собственном уменье и есть проявление высшего уровня мастерства, ибо мастерство неотделимо от нравственного такта. Главное в искусстве — точность. Как поразительно точен Межиров в замечательном стихотворении «Станислава».
Женский поиск
подобен бреду —
День короток, а ночь долга.
Женский поиск
подобен рейду
Но глубоким тылам врага.
. . . . . . . . . . . . .
Научилась
прощаться просто,
Уходя не стучать дверьми.
И процентов на девяносто
Бескорыстной
была с людьми.
Эти «девяносто процентов» и есть стопроцентная точность поэзии, потому что, даже воспевая, поэт не допускает никакой сусальности. С какой естественностью лирическое стихотворение превращается в один из лучших стихов, говорящих о мире не с вознесенной над абстрактным человечеством абстрактной трибуны, а из простой московской коммунальной квартиры, где стоит тот самый запах жареной рыбы. Некоторые поэты наряжают каждое стихотворение, как новогоднюю елку, отяжеляя смысл стеклянными шарами метафор, ватой сентиментальности, канителью изящных рифм, так что самой елки почти не видно. Но есть иная сила — сила ненарядности, неприкрашенное™.
Возле трех вокзалов продавали
Крупные воздушные шары,
Их торговки сами надували
Воздухом, тяжелым от жары.
А потом явился дворник Вася,
На торговку косо поглядел,
Папироску «Север» в зубы вдел
И сказал:
— А ну, давай смывайся...
Папиросой он шары прижег,
Ничего торговка не сжазала,
Только жалкий сделала прыжок
В сторону Казанского вокзала...
(«Возле трех вокзалов.»)
Последнее четверостишие написано с такой пластической осязаемостью, что торговка словно повисает в воздухе, как на картине Марка Шагала. Стихотворение «С войны» по своей пластической п психологической точности одно из лучших в советской поэзии.
Наш бедный стол
всегда бывал опрятен —
И, вероятно, только потому,
Что чистый спирт не оставляет пятен, —
Так воздадим же должное ему!
Еще война бандеровской гранатой
Влетала в полуночное окно,
Но где-то рядом, на постели смятой,
Спала девчонка
нежно и грешно.
Она недолго верность нам хранила —
Поцеловала, встала и ушла,
Но перед этим
что-то объяснила
И в чем-то разобраться помогла.
Как раненых выносит с поля боя
Веселая сестра из-под огня,
Так из войны, пожертвовав собою,
Она в ту осень вынесла меня.
И потому,
однажды вспомнив это,
Мы станем пить у шумного стола
За балерину из кордебалета,
Которая по жизни нас вела.
Так ли уж одиноко одиночество поэта, если в нем живет и девчонка, выносящая его с войны, как медсестра из-под огня; и угрюмый убежденный гуманист-отец, перед которым сыну страшно оказаться «горсткой пепла мудрой и бесполой»; и хирург Людмила Сергеевна, чьи руки ежедневно «по локоть в трагедии — в нашем теле...». Многое из этого вроде бы ушло, растворилось во времени, но искусство есть великое счастье воскрешения, казалось бы, потерянных людей, потерянных мгновений. Конечно, и люди и мгновения есть такие, что «тоска по ним лютей, чем припадки ностальгии на чужбине у людей». Но эти припадки ностальгии, превращающие кажущееся бесплотным в плоть искусства, и есть творчество. Герой Межирова не принадлежит к так называемым милым людям. Иногда он раздражает преувеличениями, мистификациями, раздражает своей собственной раздражительностью, доходящей до неприкрытой желчности, угрюмства. Но «простим угрюмство... Разве это сокрытый двигатель его?» «Милые люди», как показывает жизнь, в трудные минуты часто подводят. А вот неуживчивый, порой неприятный герой Межирова принадлежит к тем людям, на которых всегда можно положиться в трудную минуту. Только тот, кто самобезжалостен, может понять и пожалеть других.
Предо мной — закрытый поворот.
Знаю, не возьмешь его на бога.
Поворот закрытый —
это тот,
За которым не видна дорога.
...Где уж там аварий опасаться,
Если в жизни вое наоборот,
Мне бы только в поворот вписаться,
В поворот, в закрытый поворот.
(«Закрытый поворот»)
Конечно, трудно предугадать, что там за поворотом жизни в целом. Но, что бы ни произошло, Межиров уже навсегда вписался даже в еще закрытый для нашего взгляда поворот русской поэзии. Колеса межировского автомобиля несколько раз повисали над пропастью версификаторства, но руки профессионала сумели выравнять баранку руля. Преодоление одиночества в том, как когда-то
Стенали яростно,
навзрыд,
Одной-единой страсти ради
На полустанке — инвалид
И Шостакович — в Ленинграде.
(«Музыка»)
И ради этой одной-единой страсти и живет и пишет сложный, замечательный русский поэт Александр Межиров.
Евгений Евтушенко
ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТЕНА
БАЛЛАДА О ЦИРКЕ
Метель взмахнула рукавом —
И в шарабане цирковом
Родился сын у акробатки.
А в шарабане для него
Не оказалось ничего:
Ни колыбели, ни кроватки.
Скрипела пестрая дуга,
И на спине у битюга
Проблескивал кристаллик соли...
Спешила труппа на гастроли...
Чем мальчик был, и кем он стал,
И как, чем стал он, быть устал,
Я вам рассказывать не стану.
К чему судьбу его судить,
Зачем без толку бередить
Зарубцевавшуюся рану.
Оно как будто ни к чему,
Но вспоминаются ему
Разрозненные эпизоды.
Забыть не может ни за что
Дырявое, как решето,
Заштопанное шапито
И номер, вышедший из моды.
Сперва работать начал он
Классический аттракцион:
Зигзагами по вертикали
На мотоцикле по стене
Гонял с другими наравне,
Чтобы его не освистали.
Но в нем иная страсть жила, —
Бессмысленна и тяжела,
Душой мальчишеской владела:
Он губы складывал в слова,
Хотя и не считал сперва,
Что это стоящее дело.
Потом война... И по войне
Он шел с другими наравне,
И все, что чуял, видел, слышал,
Коряво заносил в тетрадь,
И собирался умирать,
И умер он — ив люди вышел.
Он стал поэтом той войны,
Той приснопамятной волны,
Которая июньским летом
Вломилась в души, грохоча,
И сделала своим поэтом
Потомственного циркача.
Но, возвратись с войны домой
И отдышавшись еле-еле,
Он так решил:
«Войну допой
И крест поставь на этом деле».
Писанье вскорости забросил,
Обезголосел, охладел —
И от литературных дел
Вернулся в мир земных ремесел.
Он завершил жестокий круг
Восторгов, откровений, мук —
И разочаровался в сути
Божественного ремесла,
С которым жизнь его свела
На предвоенном перепутье.
Тогда-то, исковеркав слог,
В изяществе не видя проку,
Он создал грубый монолог
О возвращении к истоку:
Итак, мы прощаемся.
Я приобрел вертикальную стену
И за сходную цену
подержанный реквизит,
Ботфорты и бриджи
через неделю надену,
И ветер движенья
меня до костей просквозит.
Я победил.
Колесо моего мотоцикла
Не забуксует на треке
и со стены не свернет.
Боль в моем сердце
понемногу утихла.
Я перестал заикаться.
Гримасами не искажается рот.
Вопрос пробуждения совести
заслуживает романа.
Но я ни романа, ни повести
об этом не напишу.
Руль мотоцикла,
кривые рога «Индиана» —
В правой руке,
успевшей привыкнуть к карандашу.
А левой прощаюсь, машу...
Я больше не буду
присутствовать на обедах.
Которые вы
задавали в мою честь.
Я больше не стану
вашего хлеба есть,
Об этом я и хотел сказать.
Напоследок...
Однако этот монолог
Ему не только не помог,
Но даже повредил вначале.
Его собратья по перу
Сочли все это за игру
И не на шутку осерчали.
А те из них, кто был умней,
Подозревал, что дело в ней,
В какой-нибудь циркачке жалкой,
Подруге юношеских лет,
Что носит кожаный браслет
И челку, схожую с мочалкой.
Так или иначе. Но факт,
Что, не позер, не лжец, не фат,
Он принял твердое решенье
И, чтоб его осуществить,
Нашел в себе задор и прыть
И силу самоотрешенья.
Почувствовав, что хватит сил
Вернуться к вертикальной стенке,
Он все нюансы, все оттенки
Отверг, отринул, отрешил.
Теперь назад ни в коем разе
Не пустит вертикальный круг.
И вот гастроли на Кавказе.
Зима. Тбилиси. Ночь. Навтлуг1.
Гастроли зимние на юге.
Военный госпиталь в Навтлуге.
Трамвайных рельс круги и дуги.
Напротив госпиталя — домик,
В нем проживаем — я и комик.
Коверный двадцать лет подряд
Жует опилки на манеже —
И улыбается все реже,
Репризам собственным не рад.
Я перед ним всегда в долгу,
Никак придумать не могу
Смехоточивые репризы.
Вздыхаю, кашляю, курю
И укоризненно смотрю
На нос его багрово-сизый.
Коверный требует реприз
И пьет до положенья риз...
В огромной бочке, по стене,
На мотоциклах, друг за другом,
Моей напарнице и мне
Вертеться надо круг за кругом.
Он стар, наш номер цирковой,
Его давно придумал кто-то, —
Но это все-таки работа,
Хотя и книзу головой.
О вертикальная стена,
Круг новый дантовского ада,
Мое спасенье и отрада, —
Ты все вернула мне сполна.
Наш номер ложный?
Ну и что ж!
Центростремительная сила
Моих колес не победила, —
От стенки их не оторвешь.
По совместительству, к несчастью,
Я замещаю зав литчастью.
1 Навтлуг — окраинный район Тбилиси.
* * *
Мы просыпались в сумраке мглистом,
Друзья не друзья, враги не враги, —
И стала наша любовь со свистом
Делать на месте большие круги.
От понедельника до субботы,
От новогодья до ноября;
Эти свистящие повороты,
Все вхолостую, впустую, зря.
Мы не держались тогда друг за друга,
И свист перешел постепенно в вой,
И я сорвался с этого круга
И оземь ударился головой.
И помутилось мое сознанье...
О, прояснить его помоги!
Снег моросит. И в густом тумане
Перед глазами плывут круги.
* * *
Одиночество гонит меня
От порога к порогу —
В яркий сумрак огня.
Есть товарищи у меня,
Слава богу!
Есть товарищи у меня.
Одиночество гонит меня
На вокзалы, пропахшие воблой,
Улыбнется буфетчицей доброй,
Засмеется,
разбитым стаканом звеня.
Одиночество гонит меня
В комбинированные вагоны,
Разговор затевает
Бессонный,
С головой накрывает,
Как заспанная простыня.
Одиночество гонит меня. Я стою,
Елку в доме чужом наряжая,
Но не радует радость чужая
Одинокую душу мою.
Я пою.
Одиночество гонит меня
В путь-дорогу,
В сумрак ночи и в сумерки дня.
Есть товарищи у меня,
Слава богу!
Есть товарищи у меня.
ОТЕЦ
По вечерам,
с дремотой
Борясь что было сил:
— Живи, учись, работай, —
Отец меня просил.
Спины не разгибая,
Трудился досветла.
Полоска голубая
Подглазья провела.
Болею,
губы сохнут,
И над своей бедой,
Бессонницею согнут,
Отец немолодой.
В подвале наркомата,
В столовой ИТР,
Он прячет воровато
Пирожное эклер.
Москвой,
через метели,
По снежной целине,
Пирожное в портфеле
Несет на ужин мне.
Несет гостинец к чаю
Для сына своего,
А я не замечаю,
Не вижу ничего.
По окружному мосту
Кружатся поезда,
В шинельку не по росту
Одет я навсегда.
Я в корпусе десантном.
Живу, сухарь грызя,
Не числюсь адресатом —
Домой писать нельзя.
А он не спит ночами,
Уставясь тяжело
Печальными очами
В морозное стекло.
Война отгрохотала,
А мира нет как нет.
Отец идет устало
В рабочий кабинет.
В году далеком Пятом
Под флагом вихревым
Он встретился с усатым
Солдатом верховым.
Взглянул и зубы стиснул,
Сглотнул кровавый ком, —
Над ним казак присвистнул
Тяжелым батожком.
Сошли большие сроки,
Как полая вода.
Остался шрам жестокий
И поет иногда.
Да это и не странно:
Ведь человек в летах,
К погоде ноет рана,
А может, просто так.
Он верит, что свобода —
Сама себе судья,
Что буду год от года
Честней и чище я,
Лишь вытрясть из карманов
Обманные слова.
В дыму квартальных планов
Седеет голова.
Скромна его отвага,
Бесхитростны бои,
Работает па благо
Народа и семьи.
Трудами изможденный,
Спокоен, горд и чист,
Угрюмый, убежденный,
Великий гуманист.
Прости меня
за леность
Непройденных дорог,
За жалкую нетленность
Полупонятных строк.
За эту непрямую
Направленность пути,
За музыку немую
Прости меня, прости...
* * *
Нехорошо поговорил
С мальчишкой, у которого
Ни разумения, ни сил,
Ни навыка, ни норова.
А он принес мне Пикассо
Какого-то периода...
Поговорил нехорошо —
Без выхода, без вывода.
ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ
Лишь услышу — глаза закрываю,
И волненье сдержать нету сил,
И вполголоса сам подпеваю,
Хоть никто подпевать не просил.
Лишь услышу, лишь только заслышу,
Сразу толком никак не пойму:
То ли дождь, разбиваясь о крышу,
Оглашает кромешную тьму,
То ли северный ветер уныло
Завывает и стонет в трубе
Обо всем, что тебя надломило,
Обо всем, что не мило тебе?
Схлынут горести талой водою,
Будет полночь легка и вольна,
И в стаканах вино молодое,
И на скатерти пятна вина.
И казалось, грустить не причина,
Но лишь только заслышу напев,
Как горит, догорает лучина, —
Сердце падает, оторопев.
Эту грусть не убью, не утишу,
Не расстанусь, останусь в плену.
Лишь услышу, лишь только заслышу —
Подпевать еле слышно начну.
И, уже не подвластный гордыне,
Отрешенный от суетных дел,
Слышу так, как не слышал доныне,
И люблю, как любить не умел.
ПОСВЯЩЕНИЕ
Без меня народ неполный.
А. Платонов
Все тоскую по земле, по строгому,
По ее измученному лбу,
По ее привыкшему ко многому
Взгляду, пред которым я не лгу.
Слово из-за пазухи вытаскиваю,
Думаю на языке степном,
Родины улыбку вишу ласковую
В очерке всего, что за окном.
Еду и билеты компостирую.,
Слушаю вокзальную тоску,
В память ненасытную, постылую
Всякое такое волоку.
По весне иду равниной талою,
Делаю зарубки на крестах,
Молодость мою, как песню старую,
Вспоминаю, — нет, не так, не так.
Уточняли и дезинфицировали,
Кипятком крутым поили впрок,
Подо Мгой из рук у смерти вырвали,
Чтобы петь умел и плакать мог.
Эшелоны выли, поворачивая,
Провода свою тянули нудь,
И земля меня просила вкрадчивая
Прикорнуть, забыться, отдохнуть.
Но опять искал дорогу торную,
Вроде той, что вывела на Мгу.
Прикорнуть, уйти от жизни в сторону,
Отдохнуть от жизни не могу.
Семечки на полустанках лузгаю,
Голову склонив, как во хмелю,
И в слезах целую землю русскую,
Потому что верю и люблю.
ПЕСНЯ ДОВЕРЬЯ
По роскошеству нарядов
Небывалой белизны,
По обилью снегопадов
Краше не было весны.
Мне доверенности снятся,
Доверяют люди мне.
На листе слова теснятся,
Вижу подписи во сне.
По лесам, среди валежин,
На асфальте городов
Снег подошвами заслежен,
Вижу подписи следов.
Люди в сон внесли, как в терем,
Снежно-белый лист земли
И меня своим доверьем,
Расписавшись, облекли.
Приняли во мне участье,
Защитили от обид.
Как доверенность на счастье
Предо мной земля лежит.
УЧИТЕЛЬ
Как быстро и грозно вертится земля
И школьные старятся учителя!
Нет силы смотреть, как стареют они
За мирные дни, за военные дни.
Вернешься с войны, мимо школы пройдешь, —
Как прежде, шумит у дверей молодежь.
А школьный учитель — он так постарел —
В глубоких морщинах и волосом бел.
Ссутулились плечи, пиджак мешковат,
И смотрит, как будто бы в чем виноват.
Как быстро и грозно вертится земля
И школьные старятся учителя.
* * *
Тишайший снегопад —
Дверьми обидно хлопать.
Посередине дня
В столице как в селе.
Тишайший снегопад,
Закутавшийся в хлопья,
В обувке пуховой
Проходит по земле.
Он формами дворов
На кубы перерезан,
Он конусами встал
На площадных кругах,
Он тунами рожден,
Он окружен железом, —
И все-таки он кот
В пуховых сапогах.
Штандарты на древках,
Как паруса при штиле.
Тишайший снегопад
Посередине дня.
И я, противник од,
Пишу в высоком штиле,
И тает первый снег
На сердце у меня.
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
Проснуться в восемь
И глядеть в окно.
Весна иль осень —
Это все равно.
Лишь только б мимо,
Всюду и всегда,
В порывах дыма
Мчались поезда.
А лучше нету
Доли кочевой —
По белу свету
В тряской грузовой.
Чтоб ливень, воя,
Падал тяжело
На ветровое
Мокрое стекло.
Я жил собой
И всеми вами жил,
Бросался в бой
И плакал у могил.
А время шло,
Мужая и борясь,
И на стекло
Отбрасывало грязь.
Я рукавом
Стирал ее во мгле
На ветровом
Исхлестанном стекле.
Я так люблю
Дорогу узнавать,
Припав к рулю,
О многом забывать!
В метель, в грозу,
Лишь руку подыми,
Я подвезу —
Бесплатно, черт возьми!
Тебя бесплатно
Подвезти клянусь,
Зато обратно
Больше не вернусь.
Всегда вдвоем,
Довольные судьбой,
Мы не даем
Покоя нам с тобой.
И смотрят двое
Весело и зло
Сквозь ветровое
Грязное стекло.
* * *
Я люблю — и ты права,
Ты права, что веришь свято,
Так, как верили когда-то
В эти вечные слова.
Я люблю...
Так почему,
Почему же, почему же
Мне с тобой гораздо хуже
И трудней, чем одному?
Прохожу все чаще мимо,
И любовь уже не в счет,
И к себе
Неотвратимо
Одиночество влечет.
МОРЕ
— Что приключится дальше?
— А не все ли
Тебе равно?
— Не скрытничай. Ответь!.. —
Твои ресницы жесткие от соли
И смуглых щек обветренная медь.
И море, море, море перед нами.
За выщербленной дамбой грохоча,
Играет буря
черными волнами,
И догорает в маяке свеча.
Но ты сказала:
— Тот, кто может плавать,
Тому на этом свете не страшна
Ни тихая, обманчивая заводь,
Ни штормовая, дикая волна.
И в тот же миг
волны возвратной сила,
Угрюмо оттолкнувшись от земли,
Меня с любимой вместе в море смыла,
И мы поплыли оба, как могли.
И больше не подвластные прибою,
Плывущие без отдыха и сна,
Волны возвратной
жертвы мы с тобою —
Нас не пускает на берег она.
Не знали мы,
что счастье только в этом —
Открытом настежь море —
не мертво,
Что лишь для тех оно не под запретом,
Кто не страшится счастья своего.
Мы к берегу стремились
что есть силы,
Обетованной жаждали земли,
Мы обрели,
нашли
покой постылый —
И на погибель счастье обрекли.
Мы выплыли с тобой
на берег юга
И возле скал зажгли костры свои
Так далеко-далёко друг от друга,
Что речи быть не может о любви.
Сбеги ко мне тропинкою пологой,
Найди меня в густеющей тени
И серо-голубые с поволокой
Твои глаза
навстречу распахни!
Я подорву дороги
за собою,
Мосты разрушу,
корабли сожгу
И, как седой десантник после боя,
Умру на незнакомом берегу.
Во имя жизни
и во имя песни,
Над выщербленной дамбою прямой,
Волна морская,
повторись,
воскресни,
Меня с любимой вместе
в море смой!
ГОРОДОК
Ах, Первояну, Первояну,
На южном севере морском!
К тебе добрался я ползком —
Усталость врачевать, как рану.
Ах, городок на берегу,
Напоминающий дугу
С бубенчиками колоколен.
Живу. Дышу. Лечусь. Молчу.
С тобой поссориться хочу,
Твоим покоем недоволен.
С ним, в тишине, наедине
Тревожно, Первояну, мне
Тревожно. Слышишь, как тревожно!
Ты слышишь, я еще живой,
Живу тревогой ножевой
Угрюмо и неосторожно.
От молодости устаю,
Быть молодым перестаю,
А все никак не перестану.
Кладу седеющий висок
На холодеющий песок
В прибрежных дюнах Первояну.
ПРОЩАНИЕ С КАРМЕН
Мы встретимся?
Быть может... Но не скоро...
Темны, как ночь, цыганские дела...
Кармен, Кармен! Любовь тореадора!
Как хорошо, Кармен, что ты ушла!
Теперь-то я припомню все подробно,
Как ты плясала, веер теребя,
Притопывая маетно и дробно,
Все время отрешаясь от себя.
Как из меня хотела сделать франта, —
Но, вопреки роскошествам тряпья,
Претила мне такая контрабанда
И суетность цыганская твоя.
Ты помнишь ту последнюю корриду,
В кровавой пене пегие бока?
Тебе казалось,
Больше я не выйду
Со шпагой и мулетой на быка.
Донашиваю все, что подарила,
Все то, чем покорила,
Завлекла, —
И пегий бык опять заходит с тыла,
Чтоб выбить пикадора из седла.
В загривок шпагу наискось продену
И уцелею всем смертям назло, —
И пусть из-за барьера на арену
Глядят контрабандисты тяжело.
Они тебя глазами раздевали
И недоумевали от души.
Красавица?
Быть может... Но едва ли...
Вот камни в серьгах, правда, хороши!
БУДИЛЬНИК
Часам к пяти, во тьме кромешной,
Замоскворецкою зимой
Походкой зыбкой и поспешной
Я провожал тебя домой.
Часам к пяти в Замоскворечье
Такая тьма, такая тишь.
Ты кутаешь худые плечи,
Поеживаешься, молчишь.
И нету слов, чтобы пустую
Беседу складную плести,
Я все сказал тебе вчистую,
Ну, а теперь — прощай! Прости...
Вернусь под низенькую кровлю,
Будильник туго заведу.
Себя к работе приготовлю,
Сварю кофейную бурду.
Часам к шести, прогнав зевоту
И кофе наспех проглотив,
Начну работу внеохоту —
Засяду подбирать мотив.
Мотивчик подбирать засяду,
Втянусь в старинную игру
И, шесть часов промучась кряду,
Коль бог поможет, подберу.
Под кровлей низенькой и тихой
Играй, будильник, не ленись,
Не останавливайся, тикай,
Со временем не разминись.
Ведь ты не зря стучал, как дятел,
Не зря потратил столько сил, —
Меня к работе приканатил
И к времени приколотил.
Засну. Проснусь. И каждый раз
Одно и то же первым делом:
Который час, который час,
Который час на свете белом?
* * *
Арбат — одна из самых узких улиц...
Не разминуться на тебе, Арбат!..
Но мы каким-то чудом разминулись
Тому почти что двадцать лет назад.
Быть может, был туман... А может, вьюга...
Да что там... Время не воротишь вспять...
Прошли — и не заметили друг друга,
И нечего об этом вспоминать.
Не вспоминай, а думай о расплате —
Бедой кормись, отчаяньем дыши
За то, что разминулись на Арбате
Две друг для друга созданных души.
БЕССОННИЦА
Хоронили меня, хоронили
В Чиатурах, в горняцком краю.
Черной осыпью угольной пыли
Падал я на дорогу твою.
Вечный траур — и листья и травы
В Чиатурах черны иссиня.
В вагонетке, как уголь из лавы,
Гроб везли. Хоронили меня.
В доме — плач. А на черной поляне
Пир горой, поминанье, вино.
Те — язычники. Эти — христиане.
Те и эти — не все ли равно!
Помнишь, молния с неба упала,
Черный тополь спалила дотла
И под черной землей перевала
Свой огонь глубоко погребла.
Я сказал: это место на взгорье
Отыщу и, припомнив грозу,
Эту молнию вырою вскоре
И в подарок тебе привезу.
По-иному случилось, иначе —
Здесь нашел я последний приют.
Дом шатают стенанья и плачи,
На поляне горланят и пьют.
Или это бессонница злая
Черным светом в оконный проем
Из потемок вломилась, пылая,
И стоит в изголовье моем?
От бессонницы скоро загину —
Под окошком всю ночь напролет
Бестолково заводят машину,
Тарахтенье уснуть не дает.
Тишину истязают ночную
Так, что кругом идет голова.
Хватит ручку крутить заводную,
Надо высушить свечи сперва!
Хватит ручку вертеть неумело,
Тарахтеть и пыхтеть в тишину!
Вам к утру надоест это дело —
И тогда я как мертвый усну.
И приснится, как в черной могиле,
В Чиатурах, под песню и стон,
Хоронили меня, хоронили
Рядом с молнией, черной как сон.
ЛИСТОПАДЫ
1
Здесь листопад одно мгновенье длится,
Вся в золоте грузинская столица,
В последней увядающей красе.
Как долго листья на ветвях держались,
Пожухли, обескрылели и сжались
И вдруг упали наземь — сразу все.
Напоминал о многом лист осенний,
В прожилках недомолвок и сомнений
Он был на друга давнего похож.
На дереве держался дольше срока
И, падая, спросил меня жестоко:
Что делаешь?
Чем дышишь?
Как живешь?
На перекрестке жгла листву курдянка,
Тянуло горьким дымом спозаранку,
Свои богатства город раздавал
И рисковал остаться к ноли нищим.
Осенний ветер ветхим голенищем
Костер на перекрестке раздувал.
Еще листва звенела под ногами,
Горчайший дым безвольными кругами
Тянулся к небосводу наугад.
Желтоволосый, как Сергей Есенин,
Как жизнь поэта, звонок и мгновенен,
Недолго длился этот листопад.
2
Над Курою город старым,
Первый лист упал с чинары —
Это листопад опять.
Первый лист упал со звоном,
Был когда-то он зеленым
И не думал опадать.
Порываюсь рвать со старым,
Отдаю тебя задаром,
С глаз долой, из сердца вон.
В день прощанья, в нас разлуки
Слышу горестные звуки —
Перезвяк и перезвон.
Перезвон и перезвяк
Листьев золотых и медных
На все более заметных,
Проступающих ветвях.
СОСЕДИ
Ну вот и задал я себе задачу:
Дышать и жить иначе,
Чем живу, —
Так жить, как едут эти вот на дачу,
Куда-то недалёко, под Москву.
Совсем не чинно вышли из подъезда,
Одетые по-всякому, не в масть.
Налезли в кузов, так что нету места,
Как говорится, яблоку упасть.
Они довольны, кажется, судьбою,
Вольны вершить житейский подвиг свой,
И тень машина увезла с собою
По вываренной в зное мостовой.
Басистый смех да плач ребячий тонкий,
Совсем —
Не тишь,
Но-
Прямо благодать!
Полно народу в кузове трехтонки,
А вот вещей почти что не видать.
Так и дышать корысти не в угоду.
Вот так и жить — не ради постных щей,
Так жить, чтоб много в кузове
Народу,
Так жить, чтоб мало в кузове
Вещей.
Так жители окраинных кварталов
На дачу едут, плачут и поют;
Так над землей летал Валерий Чкалов,
Механику оставив парашют.
Писать бы мне о Чкалове поэму,
И у крыльца,
На стуже,
Ввечеру
Бить колуном по звонкому полену,
И жизнь любить, покамест не умру.
* * *
Этот город, как колокол-сплетник,
Всюду радость мою раззвонил,
Чувств моих не жалея последних,
Клокотал, выбивался из сил.
Волю дал этот город злословью,
Этот колокол невечевой
Над моею последней любовью
Усмехался ухмылкой кривой.
Что я сделал тебе, чем озлобил?
Или тем, что из суетных дел,
Как запаленный конь из оглобель,
Снова вырваться я захотел?
Чем она пред тобой виновата?
Или тем, что жила не в чести,
Или все это просто расплата
За попытку себя обрести?!
Мы себя обрести захотели,
Но уйти не смогли от суда.
Вот и вышло, что надо у цели
Нам проститься с тобой навсегда.
Только плакать об этом не надо, —
Ты сегодня увидишь сама,
Как прощальным платком снегопада
В марте месяце машет зима.
* * *
Ты не напрасно шла со мною,
Ты, увереньями дразня,
Как притяжение земное,
Воздействовала на меня.
И я вдыхал дымок привала,
Свое тепло с землей деля.
Моей судьбой повелевала
Жестокосердная земля.
Но я добавлю, между прочим,
Что для меня, в расцвете сил,
Была земля — столом рабочим,
Рабочий стол — землею был.
И потерпел я пораженье,
Остался вне забот и дел,
Когда земное притяженье
Бессмысленно преодолел.
Но ты опять меня вернула
К земле рабочего стола.
Хочу переводить Катулла,
Чтоб ты читать его могла.
ФЕВРАЛЬ
Шаг один от февраля до марта...
Николай Тарасов
1
Вот из ворот арбатского двора
Она выходит, равнодушно глядя.
В нещипаном бобре солидный дядя
На тротуаре топчется.
Пора!
Пора, пора вершить еще одно,
Еще одно, последнее свиданье,
То, о котором решено заране,
Что ничего не выйдет все равно.
В проулок приарбатский из ворот
Она выходит, скроенная ладно,
И повернуть ей хочется обратно,
Но не обратно, а туда идет.
Две девочки застыли на бегу,
Во все глаза следят завороженно
За шубкой из пушистого нейлона,
За тонкой бровью, выгнутой в дугу.
В младенческом неведенье своем
Они запоминают все детали:
Ах, как воздушен газ ее вуали!
Как у нее высок ноги подъем!
Ну что глядите, думает она.
Не дай вам бог... А впрочем,
ведь когда-то
И ты пленялась дивами Арбата...
Да что там ты! Не только ты одна.
Но твой беспечный разум не постиг,
Что все, что старо, и что все, что юно,
Мечтало и мечтает обоюдно
Местами поменяться хоть на миг.
И вот машина в ночь тебя увозит
От девочек, от дома, от ворот.
Еще февраль бодрится и морозит,
Но и мороз-то сам уже не тот.
2
Летит сосулька из зимы в весну
И, перед тем как сделаться водою,
Звенит, исходит песней молодою,
И гонит сон, и клонит не ко сну.
Проулок ваш не узок, не широк,
И окна в окна смотрят не мигая,
И, по карнизу шибко пробегая,
Тревожит занавеску ветерок.
Ваш двор как перевернутый колодезь,
На дне колодца — небо, как вода.
В ту воду вы однажды окунетесь
И захлебнетесь ею навсегда.
Что там творится, в мире заоконном?!
Зима в исходе, видно по всему.
Давайте вместе слушать, как со звоном
Летит сосулька из зимы в весну.
* * *
Мне комнаты в привычку обживать,
Но не могу никак обжить вот эту —
Скольжу но навощенному паркету
И падаю на смятую кровать.
Не то чтобы сомненье одолело,
Не то чтобы мерещились враги,
А не могу обжить — такое дело! —
Перешагни порог
и помоги.
* * *
Возле трех вокзалов продавали
Крупные воздушные шары,
Их торговки сами надували
Воздухом, тяжелым от жары.
Те шары летать умели только
Сверху вниз — и не наоборот.
Но охотно покупал народ, —
Подходили, спрашивали:
Сколько?..
А потом явился дворник Вася,
На торговку косо поглядел,
Папироску «Север» в зубы вдел
И сказал:
А ну, давай смывайся...
Папиросой он шары прижег,
Ничего торговка не сказала,
Только жалкий сделала прыжок
В сторону Казанского вокзала.
На земле вокзалы хороши!
Слушай голоса гудков усталых!
От души смеются на вокзалах,
На вокзалах плачут от души.
Вижу, вижу смутно, как в тумане:
В темном, непротопленном углу
Чутко дремлют пестрые цыгане
В рухляди, на каменном полу.
Вез тебя не жить па белом свете,
Не дышать, не петь, не плакать врозь,
Мой вокзал! Согрей меня в буфете,
На перроне гулком заморозь.
* * *
Подкова счастья! Что же ты, подкова!
Я разогнул тебя из удальства
И вот теперь согнуть не в силах снова
Вернуть на счастье жалкие права.
Как возвратить лицо твое степное,
Угрюмых глаз неистовый разлет,
И губы, пересохшие от зноя,
И все, что жизнь обратно не вернет?
Так я твержу девчонке непутевой,
Которой все на свете трын-трава, —
А сам стою с разогнутой подковой
И слушаю, как падают слова.
* * *
От зноя и от пыли,
От ветра и воды
Терраску застеклили
На разные лады.
Цвела моя терраска!
Для каждого стекла
Особенная краска
Подобрана была.
С терраски застекленной,
Из пестрого окна
Мне жизнь видна зеленой
И розовой видна,
Оранжевой, лиловой
И розовой опять,
И розовое слово
Мне хочется сказать.
Стекляшками на части
Разъято бытиё,
И розовые страсти —
Призвание мое.
Нет ни зимы, ни лета,
Ни ночи нет, ни дня,
И розового цвета
Румянец у меня.
Не ведаю, какая
Погода наяву.
От жизни отвыкая,
Живу и не живу.
Но жизнь — превыше быта,
Добро — сильней, чем зло,
И вдребезги разбито
Обманное стекло.
И, как в волшебной сказке,
По мановенью лет
Приобретают краски
Первоначальный цвет.
* * *
Стоял над крышей пар,
Всю ночь капель бубнила.
Меня ко сну клонило,
По я не засыпал.
А утром развели
Мастику полотеры,
Скрипели коридоры,
Как в бурю корабли...
Натерли в доме пол,
Гостиницей пахнуло,
В дорогу потянуло —
Собрался и пошел.
Опять бубнит капель
В стволе у водостока,
А я уже далёко,
За тридевять земель.
Иду, плыву, лечу
В простор степной и дикий,
От запаха мастики
Избавиться хочу.
СПОРЫ
Мы ни о чем не спорили тогда,
Делили молча сухари и сало.
Синявинская черная вода
Под снегом никогда не замерзала.
Кто как умел спасался от зимы.
Умел ли кто? Быть может. Но едва ли...
К огню вплотную придвигались мы
И, задремав, шинели прожигали.
И, лишь размяться отойдешь па шаг,
Огнем займется кровельная хвоя,
Взрываются патроны в шалашах
И облако встает пороховое.
Но минул срок Синявинских болот,
Остались только гильзы от патронов.
Теперь мы спорим ночи напролет,
Вагон вопросов с места трудно стронув.
Теперь всю ночь, до поздних зимних зорь,
И при дневном от снега белом свете
Стой на своем, не засыпай и спорь,
Не отступай. Упрямым будь, как дети!
Мы спорим, загораясь как огонь,
Опасности таятся в наших спорах,
Как будто мы с ладони на ладонь
Вблизи огня пересыпаем порох.
ВОЗРАСТ
Наша разница в возрасте невелика,
Полдесятка не будет годов.
Но во мне ты недаром узрел старика —
Я с тобой согласиться готов.
И жестокость наивной твоей правоты
Я тебе не поставлю в вину,
Потому что действительно старше, чем ты,
На Отечественную войну.
* * *
Наедине с самим собой
Шофер, сидящий за баранкой,
Солдат, склоненный над баландой,
Шахтер, спустившийся в забой...
Когда мы пушки волокли
Позевывающей поземкой,
Команда:
«Разом налегли!..» —
Старалась быть не слишком громкой.
С самим собой наедине
Я на лафет ложился телом,
Толкал со всеми наравне
Металл в чехле заиндевелом.
Когда от Ленинграда в бой
Я уходил через предместье,
Наедине с самим собой,
И значило — со всеми вместе.
ПРОВОДЫ
Без слез проводили меня...
Не плакала, не голосила,
Лишь крепче губу закусила
Видавшая виды родня.
Написано так на роду...
Они, как седые легенды,
Стоят в сорок первом году,
Родители-интеллигенты.
Их предки, в эпохе былой,
Из дальнего края нагрянув,
Со связками бомб под полой
Встречали кареты тиранов.
И шли на крутой эшафот,
Оставив полжизни в подполье, —
Недаром в потомках живет
Способность не плакать от боли.
Меня проводили без слез,
Не плакали, не голосили,
Истошно кричал паровоз,
Окутанный клубами пыли.
Неведом наш путь и далек,
Живыми вернуться не чаем,
Сухой получаем паек,
За жизнь и за смерть отвечаем.
Тебя повезли далеко,
Обритая наспех, пехота...
Сгущенное пить молоко
Мальчишке совсем неохота.
И он изо всех своих сил,
Нехитрую вспомнив науку,
На банку ножом надавил,
Из тамбура высунул руку.
И вьется, густа и сладка,
Вдоль пульманов пыльных состава
Тягучая нить молока,
Последняя в жизни забава.
Он вспомнит об этом не раз,
Блокадную пайку глотая.
Но это потом, а сейчас
Беспечна душа молодая.
Но это потом, а пока,
Покинув консервное лоно,
Тягучая нить молока
Колеблется вдоль эшелона.
Пусть нечем чаи подсластить,
Отныне не в сладости сладость,
И вьется молочная нить,
Последняя детская слабость.
Свистит за верстою верста,
В теплушке доиграно действо,
Консервная банка пуста.
Ну вот и окончилось детство.
* * *
Паровозного пара шквалы
Вырываются из-под моста,
Смоляные лоснятся шпалы,
За верстою свистит верста.
Жизнь железной была дорогой,
Версты — годы, а шпалы — дни.
На откосе, в земле пологой,
Возле рельсов похорони.
По какой летел магистрали,
До сих пор не забыть никак.
Буксы тлели и прогорали,
Зубы ныли на сквозняках.
Кое-как заберусь в телятник,
На разъезде куплю молоко,
Подстелю под голову ватник,
Сплю спокойно и глубоко.
А проснусь, потянусь — и вскоре
Полегчает житье-бытье.
В Туапсе начиналось море
И кончалось горе мое.
И солдаты поют на нарах —
Зарыдаешь, того гляди, —
В порыжелых шинелях старых,
С медальонами на груди.
Сшей мне саван из клочьев дыма,
У дороги похорони,
Чтоб всю смерть пролетали мимо
Эшелонов ночных огни.
НОЧЬ
В землянке, на войне, уютен треск огарка.
На нарах крепко сплю, но чуток сон земной.
Я чувствую — ко мне подходит санитарка
И голову свою склоняет надо мной.
Целует в лоб — и прочь к траншее от порога
Крадется на носках, прерывисто дыша.
Но долго надо мной торжественно и строго
Склоняется ее невинная душа.
И темный этот сон милее жизни яркой,
Не надо мне любви, сжигающей дотла,
Лишь только б ты была той самой
санитаркой,
Которая ко мне в землянке подошла.
Жестокий минет срок — и многое на свете
Придется позабыть по собственной вине,
Но кто поможет мне продлить минуты эти
И этот сон во сне, в землянке, на войне.
КАЛЕНДАРЬ
Покидаю Невскую Дубровку,
Кое-как плетусь по рубежу —
Отхожу на переформировку
И остатки взвода увожу.
Армия моя не уцелела,
Не осталось близких у меня
От артиллерийского обстрела,
От косоприцельного огня.
Перейдем по Охтенскому мосту
И на Охте станем па постой —
Отдирать окопную коросту,
Женскою пленяться красотой.
Охта деревянная разбита,
Растащили Охту на дрова.
Только жизнь, она сильнее быта:
Быта нет, а жизнь еще жива.
Боганов со мной из медсанбата,
Мы в глаза друг другу не глядим —
Слишком борода его щербата,
Слишком взгляд угрюм я нелюдим.
Слишком на лице его усталом
Борозды о многом говорят.
Спиртом неразбавленным и салом
Боганов запасливый богат.
Мы на Верхней Охте квартируем.
Две сестры хозяйствуют в дому,
Самым первым в жизни поцелуем
Памятные сердцу моему.
Помню, помню календарь настольный,
Старый календарь перекидной,
Записи на нем и почерк школьный,
Прежде — школьный, а потом — иной.
Прежде — буквы детские, смешные,
Именины и каникул дни.
Ну, а после — записи иные.
Иначе написаны они.
Помню, помню, как мало-помалу
Голос горя нарастал и креп:
«Умер папа». «Схоронили маму».
«Потеряли карточки на хлеб».
Знак вопроса — исступленно дерзкий.
Росчерк — бесшабашно-удалой.
А потом — рисунок полудетский:
Сердце, пораженное стрелой.
Очерк сердца зыбок и неловок,
А стрела перната и мила —
Даты первых переформировок,
Первых постояльцев имена.
Друг на друга буквы повалились,
Сгрудились недвижно и мертво:
«Поселились. Пили. Веселились».
Вот и все. И больше ничего.
Здесь и я с друзьями в соучастие, —
Наспех фотографии даря,
Переформированные части
Прямо в бой идут с календаря.
Дождь на стеклах искажает лица
Двух сестер, сидящих у окна;
Переформировка длится, длится,
Никогда не кончится она.
Наступаю, отхожу и рушу
Все, что было сделано не так.
Переформировываю душу
Для грядущих маршей и атак.
Вижу вновь, как, в час прощаясь
ранний,
Ничего на память не берем.
Умираю от воспоминаний
Над перекидным календарем.
МЕДАЛЬОН
...И был мне выдан медальон
пластмассовый,
Его хранить велели на груди,
Сказали: — Из кармана не выбрасывай,
А то... не будем уточнять... иди!
Гудериан гудел под самой Тулою.
От смерти не был я заговорен,
Но все же разминулся с пулей-дурою
И вспомнил как-то раз про медальон.
Мою шинель походы разлохматили,
Прожгли костры пылающих руин.
А в медальоне спрятан адрес матери:
Лебяжий переулок, дом 1.
Я у комбата разрешенье выпросил
И, вдалеке от городов и сел,
Свой медальон в траву густую выбросил
И до Берлина невредим дошел.
И мне приснилось, что мальчишки
смелые,
Играя утром от села вдали,
В яру орехи собирая спелые,
Мой медальон пластмассовый нашли.
Они еще за жизнь свою короткую
Со смертью не встречались наяву
И, странною встревожены находкою,
Присели, опечалясь, на траву.
А я живу и на судьбу но сетую,
Дышу и жизни радуюсь живой, —
Хоть медальон и был моей анкетою,
Но без него я долг исполнил свой.
И, гордо вскинув голову кудрявую,
Помилованный пулями в бою,
Без медальона, с безымянной славою,
Иду по жизни. Плану и пою.
* * *
О войне ни единого слова
Не сказал, потому что она —
Тот же мир, и едина основа
И природа явлений одна.
Пусть сочтут эти строки изменой
И к моей приплюсуют вине:
Стихотворцы обоймы военной
Не писали стихов о войне.
Всех в обойму военную втисни,
Остриги под гребенку одну!
Мы писали о жизни...
о жизни,
Не делимой на мир и войну.
И особых восторгов не стоим:
Были мины в ничьей полосе
И разведки, которые боем,
Из которых вернулись не все.
В мирной жизни такое же было:
Тот же холод ничейной земли,
По своим артиллерия била,
Из разведки саперы ползли.
САРАТОВ
В Саратове
Меня не долечили,
Осколок
Из ноги не извлекли —
В потертую шинельку облачили,
На север в эшелоне повезли.
А у меня
Невынутый осколок
Свербит и ноет в стянутой ступне,
И смотрят люди со щербатых полок Никак в теплушку не забраться мне.
Военная Россия
Вся в тумане,
Да зарева бесшумные вдали...
Саратовские хмурые крестьяне
В теплушку мне забраться помогли.
На полустанках
Воду приносили
И теплое парное молоко.
Руками многотрудными России
Я был обласкан просто и легко.
Они своих забот не замечали,
Не докучали шалостями мне,
По сыновьям, наверное, скучали,
А возраст мой
Сыновним был
Вполне.
Они порою выразятся
Круто,
Порою скажут
Нежного нежней,
А громких слов не слышно почему-то,
Хоть та дорога длится тридцать дней.
На нарах вместе с ними я качаюсь,
В телятнике на Ладогу качу,
Ни от кого ничем не отличаюсь
И отличаться вовсе не хочу.
Перед костром
В болотной прорве стыну,
Под разговоры долгие дремлю,
Для гати сухостой валю в трясину,
Сухарь делю,
Махоркою дымлю.
Мне б надо биографию дополнить,
В анкету вставить новые слова,
А я хочу допомнить,
Все допомнить,
Покамест жив и память не слаба.
О, этих рук суровое касанье,
Сердца большие, полные любви,
Саратовские хмурые крестьяне,
Товарищи любимые мои!
МУЗЫКА
Какая музыка была!
Какая музыка играла,
Когда и души и тела
Война проклятая попрала.
Какая музыка
во всем,
Всем и для всех —
не по ранжиру.
Осилим... Выстоим... Спасем...
Ах, не до жиру — быть бы живу...
Солдатам головы кружа,
Трехрядка
под накатом бревен
Была нужней для блиндажа,
Чем для Германии Бетховен.
И через всю страну
струна
Натянутая трепетала,
Когда проклятая война
И души и тела топтала.
Стенали яростно,
навзрыд,
Одной-единой страсти ради
На полустанке — инвалид
И Шостакович — в Ленинграде.
ЭТОТ ГОД
Спать, в подушку зарыться, забыться,
В сон, как в воду, уйти с головой!
Но горит огневая зарница,
В дом врывается гром грозовой.
Никакая, казалось мне, сила
Не поднимет с постели меня.
Но гроза неизменно будила
Плеском капель и блеском огня.
Нет, не этим — не блеском, не плеском
Я бывал ото сна отрешен, —
Потому что лишь в грохоте резком
Обрывался все время мой сон.
Я не видел, как молния режет
Сумрак ночи и сумерки дня, —
Только грохот, похожий на скрежет,
Пробуждал то и дело меня.
Я не видел, как блещет зарница,
Я но слышал, как плещет вода...
Этот год, он ни с чем не сравнится,
Не забудется он никогда.
Сколько точек над «и» он поставил,
Сколько взял вдохновенья и сил.
Глубже чувствовать время заставил,
Жажду мыслить в сердцах пробудил.
Сном забыться не мог я все лето
И забыть не смогу ничего
Из подробностей белого света
В роковые минуты его.
ПРОЩАНИЕ СО СНЕГОМ
Вот и покончено со снегом,
С московским снегом голубым, —
Колес бесчисленных набегом
Он превращен в промозглый дым.
О, сколько разных шин! Не счесть их!
Они, вертясь наперебой,
Ложатся в елочку и в крестик
На снег московский голубой.
От стужи кровь застыла в жилах,
Но вдрызг разъезжены пути —
Погода зимняя не в силах
От истребленья снег спасти.
Москва от края и до края
Голым-гола, голым-гола.
Под шинами перегорая,
Снег истребляется дотла.
И сколько б ни валила с неба
На землю зимняя страда,
В Москве не будет больше снега,
Не будет снега никогда.
МАСТЕРА
Мастера — особая
Поросль. Мастера!
Мастером попробую
Сделаться. Пора!
Стану от усталости
Напиваться в дым.
И до самой старости
Буду молодым.
Вот мой Ряд Серебряный,
Козырек-навес,
Мой ларек, залепленный
Взглядами невест.
Мы такое видели,
Поняли, прошли, —
Пусть молчат любители,
Выжиги, врали.
Пусть молчат мошенники,
Трутни, сорняки —
Околокожевники,
Возлескорняки.
Да пребудут в целости,
Хмуры и усталы,
Делатели ценности —
Профессионалы.
* * *
Касторкой пахнет!..
Миновав проселок,
Два мотоцикла,
Круто накренясь,
На автостраду,
Мимо ржавых елок,
Кидаются, расшвыривая грязь.
Прощай, мое призвание былое —
Ничтожное, прекрасное и злое...
Не знаю сам, к какому рубежу
Я от твоей погони ухожу.
* * *
Обескрылен,
ослеп
и обезголосел, —
Мне искусство больше не по плечу.
Жизнь,
открой мне тайны своих ремесел, —
Быть причастным таинству
я
не хочу.
Да будут взоры мои
чисты и невинны,
А руки
натружены, тяжелы и грубы.
Я люблю
черный хлеб,
деревянные ложки,
и миски из глины,
И леса под Рязанью,
где косами косят грибы.
* * *
Москва. Мороз. Россия.
Да снег, летящий вкось.
Свой красный нос,
разиня,
Смотри не отморозь!
Ты стар, хотя не дожил
До сорока годов.
Ты встреч не подытожил,
К разлукам не готов.
Был русским плоть от плоти
По мыслям, по словам, —
Когда стихи прочтете,
Понятней станет вам.
По льду стопою голой
К воде легко скользил
И в полынье веселой
Купался девять зим.
Теперь как вспомню — жарко
Становится на миг,
И холодно и жалко,
Что навсегда отвык.
Кровоточили цыпки
На стонущих ногах...
Ну, а писал о цирке,
О спорте, о бегах.
Я жил в их мире милом,
В традициях веков,
И был моим кумиром
Жонглер Олъховиков.
Он внуком был и сыном
Тех, кто сошел давно.
На крупе лошадином
Работал без панно.
Юпитеры немели,
Манеж клубился тьмой.
Из цирка по метели
Мы ехали домой.
Я жил в морозной пыли,
Закутанный в снега.
Меня писать учили
Тулуз-Лотрек, Дега.
К МОРЮ
Владыки и жрецы глядят за окоем,
Неведомую даль испытывая взглядом.
Неинтересно им смотреть на то, что рядом,
Когда они стоят на берегу твоем.
А я, ничтожный раб, наедине с тобою,
Неведомую даль ладонью заслоня,
Восторженно гляжу на линию прибоя,
И, словно горизонт, она влечет меня.
ЧАСЫ
Отец
закончил жизнь
и труд...
Но, как у мертвеца
на фронте,
Часы отца
Еще идут
И не нуждаются
в ремонте.
И чтоб не прерывалась
нить,
Связующая воедино
Судьбу отца и долю
сына,
Часы придется
починить,
Когда испортится
пружина.
Я отыщу часовщика,
Скажу:
— Пружина
не пружинит...
И часовщик
Наверняка
Часы отцовские
починит...
Я прикреплю их
на стоне,
У изголовья
Над диваном.
Вернется жизнь —
К часам карманным
И чувство времени —
Ко мне.
А ты, отец,
Спокойно спи, —
Надежна и прочна
пружина.
И звенья времени —
В цепи,
Которая нерасторжима.
ЗАЩИТНИК МОСКВЫ
Вышел мальчик
из дому
В летний день
в первый зной.
К миру необжитому
Повернулся спиной.
Улыбнулся разлуке,
На платформу шагнул,
К пыльным поручням
руки,
Как слепой, протянул.
Невысокого роста
И в кости не широк,
Никакого геройства
Совершить он не смог.
Но с другими со всеми,
Неокрепший еще,
Под тяжелое Время
Он подставил плечо:
Под приклад автомата,
Расщепленный в бою,
Под бревно для наката,
Под Отчизну свою.
Был он тихий и слабый,
Но Москва без него
Ничего не смогла бы,
Не смогла ничего.
ЖЕНЩИНЫ
Впотьмах
семенили
сутуло...
Бескровные лица в пыли...
Земля от войны отдохнула,
И вышли на свет — расцвели.
Вечерние платья скроили,
Панбархат сшивали в края,
Придумали моды и стили, —
У каждой прическа своя.
Свои тон разговора и кожи, —
Но пристальней в лица взгляни:
А вдруг друг на друга похожи
От этого стали они?
Нет, нет, не похожи ни капли
Девчонки в юбчонках тугих,
Одни длинноногие цапли
На коротконогих других.
Неужто же снова над миром
Провоет сирена,
а там
Война роковым нивелиром
Пройдется по женским чертам?
И в мире опять воцарится
Спасительный ватник-урод?
Война нивелирует лица...
А может быть, наоборот?
* * *
Просыпался от лопат,
По булыжнику скребущих.
Звезды крупные горят,
Нету снега в райских кущах.
Ну а здесь, вдали от звезд,
Райская не в моде нега,
На булыжниках нарост
Льда и смерзшегося снега.
Был недавно так глубок
Сон предутренний.
Но тяжко
Нажимает на скребок
Кашляющий старикашка.
Как давно, свою метлу
Навсегда поставив в угол,
Из ночной в иную мглу
Старичок навечно убыл.
Над тобой, река Москва,
И над руслами каналов —
Задранные кузова
Непотребных самосвалов.
Как давно совсем не те
Звезды из холодной ночи.
Полуробот что есть мочи
Громыхает в темноте.
Полуробот молодой,
Четырехколесный малый,
Снег счищает с мостовой —
На конвейер —
в самосвалы.
Выгнутые в полукруг
Загребалки полурук.
Рахитичный полуробот,
Слышишь мой бессонный ропот
Я ропщу лишь потому,
Что с тебя все взятки гладки,
Кибернетика в зачатке
И бессонница в дому.
СТАНИСЛАВА
Сколько шума,
ах, сколько шума!
Пересуды на все лады.
Шуба куплена!
Шуба!!
Шуба...
Только б не было вдруг беды...
Шуба куплена
неплохая —
Привлекательная на вид.
Мехом огненным полыхая,
Над кроватью она висит.
Тридцать
стукнуло
Станиславе, —
Не кому-то, а ей самой, —
И она, несомненно, вправо
В шубу вырядиться зимой.
Тридцать —
прожиты трудновато:
Было всякое, даже грязь.
Станислава не виновата
В том, что женщиной родилась.
Не сложилось в начале самом:
Станислава
была
горда, —
Ну, а он оказался хамом —
Бабник, синяя борода.
И сама не припомнит —
пела
Или слезы рекой лила.
Только вскоре
не утерпела,
Дверью хлопнула и ушла.
Прерывая веселье стоном,
От бессонных ночей бледна,
В женском поиске исступленном
Десять лет
провела она.
Женский поиск
подобен бреду —
День короток, а ночь долга.
Женский поиск
подобен рейду
По глубоким тылам врага.
Так, без роздыха и привала,
На хохочущих сквозняках,
Станислава
себя искала
И найти не могла никак.
Научилась
прощаться просто,
Уходя, не стучать дверьми.
И процентов на девяносто
Бескорыстной
была с людьми.
Но презренного нет металла,
И на лад не идут дела.
Голодала и холодала, —
Экономию навела.
Продавцы намекали грубо
На особые времена.
И в конечном итоге —
шуба
Над кроватью водворена.
На дворе — молодое лето, —
Улыбайся, живи, дыши.
Но таится тревога
где-то
В самом дальнем углу души.
Самодержцы, Владыки, Судьи,
Составители схем и смет,
Ради шубы —
проголосуйте!
Ради Стаей
скажите —
нет!
Ради мира
настройте речи
На волну моего стиха, —
Дайте Стасе закутать плечи
В синтетические меха.
Воспитать разрешите братца,
Несмышленыша, малыша.
Дайте в шубе покрасоваться —
Шуба новая
хороша!
Чтобы Стася могла
впервые,
От восторга жива едва,
Всунуть рученьки
в меховые,
На три четверти
рукава.
* * *
Все приходит слишком поздно, —
И поэтому оно
Так безвкусно, пресно, постно, —
Временем охлаждено.
Слишком поздно — даже слава,
Даже деньги на счету, —
Ибо сердце бьется слабо,
Чуя бренность и тщету.
А когда-то был безвестен,
Голоден, свободен, честен,
Презирал высокий слог,
Жил, не следуя канонам, —
Ибо все, что суждено нам,
Вовремя приходит, в срок.
* * *
Впервые в жизни собственным умом
Под старость лишь раскинул я немного.
Не осознал себя твореньем бога,
Но душу вдруг прозрел в себе самом.
Я душу наконец прозрел — и вот
Вдруг ощутил, что плоть моя вместила
В себе неисчислимые светила,
Которыми кишит небесный свод.
Я душу наконец в себе прозрел,
Хотя и без нее на свете белом
Вполне хватало каждодневных дел,
И без нее возни хватало с телом.
* * *
Моя рука давно отвыкла
От круто выгнутых рулей
Стрекочущего мотоцикла
(«Иж»... «Ява»... «Индиан»... «Харлей»...).
Воспоминанья зарифмую,
Чтоб не томиться ими впредь:
Когда последнюю прямую
Я должен был преодолеть,
Когда необходимо было
И, как в Барабинской степи,
В лицо ямщицким ветром било,
С трибуны крикнули:
— Терпи!
Готов терпеть во имя этой
Проникновеннейшей из фраз,
Движеньем дружеским согретой
И в жизни слышанной лишь раз.
НАПУТСТВИЕ
Согласен,
что поэзия должна
Оружьем быть (и всякое такое).
Согласен,
что поэзия — война,
А не обитель вечного покоя.
Согласен,
что поэзия не скит,
Не лягушачья заводь, не болотце...
Но за существование бороться
Совсем иным оружьем надлежит.
Сбираясь в путь,
стяни ремень потуже,
Меси прилежно бездорожий грязь...
Но, за существование борясь,
Не превращай поэзию в оружье.
Она в другом участвует бою...
Спасибо, жизнь, что голодно и наго!
Тебя
за благодать, а не за благо
Благодарить в пути не устаю.
Спасибо,
что возможности дала,
Блуждая в элегическом тумане,
Не впутываться в грязные дела
И не бороться за существованье.
РЕБРО
Зачем понадобилось Еве
Срывать запретный этот плод —
Она еще не сознает.
Но грех свершен, и бог во гневе.
Вселился в змея сатана
И женщине внушал упрямо,
Что равной богу стать должна
Подруга кроткого Адама.
А дальше... Боже! Стыд и срам...
В грехе покаяться не смея,
На Еву валит грех Адам,
А та слагает грех на змея.
Я не желаю гнать Добро
И Зло, от коих все недуги.
Верни мне, бог, мое ребро, —
Мы обойдемся без подруги.
* * *
Спокойно спал в больших домах в Москве,
Но вдалеке от зданий крупноблочных,
В Литве — была бессонница и две
Собаки для прогулок заполненных,
По Вильнюсу бродя то здесь, то там,
Два поводка натянутых ременных
Держал в руке — и вывески на стенах
Читал при малом свете по складам.
По Вильнюсу, примерно в тот же час,
Двух собачонок женщина водила.
Бессонницу свою заполнить тщась,
Со мной болтала искренне и мило.
Мы не знакомы с ней по существу, —
Но именно она, уверен в этом,
Навеки осветила мне Литву
Бессонниц наших двуединым светом.
ПОТОЛОК
Эта женщина, злая и умная,
Проживает под кровлей одна.
Но подруг разномастная уния
Этой женщине подчинена.
Эта церковь для склада, для клуба ли
Предназначена прежде была,
А теперь там лишь комнатка в куполе
Да в холодной печурке зола.
Эта комната — получердачная,
Антресоли как банный полок,
Обстановка плетеная, дачная,
Весь в подтеках косой потолок.
Купол неба над куполом комнаты,
Небывалая крыша худа.
Убрала свою горницу скромно ты,
Но зато потолок — хоть куда!
Вещи брошены или рассованы,
На хозяйку взирают мертво.
Потолок весь в подтеках, рисованный, —
Эта женщина смотрит в него.
— Дождик мой, — говорит она, —
меленький,
Дождик миленький, лей не жалей,
Ни в России никто, ни в Америке
Рисовать не умеет смелей.
Я с тобою, мой дождичек, вместе реву,
Над кроватью течет потолок.
Никакому Рублеву и Нестерову
Лик такой и присниться не мог.
Никакому на свете художнику
Так Исуса не нарисовать,
Как осеннему мелкому дождику,
Попадающему на кровать.
МОНОЛОГ, ОБРАЩЕННЫЙ К ХИРУРГУ
Спасибо, Людмила Сергеевна,
доктор милый!
Вот опять вы моете
руки
водой мыльной,
Видно, погода — разведрилась,
Видно, природа — расщедрилась:
И красоту и разум
Вам подарила разом.
Что терапевты?!
Сочувствуют, —
При сем, так сказать, присутствуют.
Рецепт по-латыни выпишут
И на работу выпишут.
Места болевые трогать
Не очень-то захотели;
А вы
ежедневно по локоть
В трагедии —
в нашем теле.
БАЛЕТНАЯ СТУДИЯ
В классах свет беспощаден и резок,
Вижу выступы полуколонн.
Еле слышимым звоном подвесок
Трудный воздух насквозь просквожен.
Но зато пируэт все послушней,
Все воздушней прыжок, все точней.
Кто сравнил это дело с конюшней
Строевых кобылиц и коней?
Обижать это дело не надо,
Ибо все-таки именно в нем
Дышит мрамор, воскресла Эллада,
Прометеевым пышет огнем.
Тем огнем, что у Зевса украден
И, наверное, лишь для того
Существу беззащитному даден,
Чтобы мучилось то существо.
Свет бесстрастный, как музыка Листа,
Роковой, нарастающий гул,
Балерин отрешенные лица
С тусклым блеском обтянутых скул.
* * *
Г. Маргвелашвили
Верийский спуск в снегу. Согреемся
немного
И потолкуем. Вот кафе «Метро».
О Корбюзье, твое дитя мертво,
Стеклянный домик выглядит убого.
В содружестве железа и стекла
Мы кофе пьем, содвинув два стола.
Курдянка-девочка с безуминкой во взгляде
Нам по четвертой чашке принесла
И, слушая, таится где-то сзади.
О, на какой загубленной лозе
Возрос коньяк, что стоит восемь гривен?!
Продолжим разговор о Корбюзье:
Ну да, конечно, я консервативен.
Ну да, светло, тепло — и вместе с тем
Душа тоскует о старье и хламе, —
Свет фонаря в любом убогом храме
Куда светлей, чем свет из этих стен.
Вот какова архитектура храма:
Через фонарь в округлом потолке
На человека небо смотрит прямо,
И с небом храм всегда накоротке.
Свет фонаря в пределы храма с неба
Является, как истина сама.
Смотри, как много навалило снега.
Верийскпй спуск. Зима, зима, зима...
* * *
Как ни мудри и что ни говори,
А возраст мой все круче забирает
И мыслями блажными забавляет —
Что мне вчера минуло тридцать три.
Проснулся в этом возрасте Илья.
Нет, не пророк, а Муромец былинный.
Прервался сон, осмысленный и длинный, —
Мне тридцать три. Пора. Проснусь и я.
Ты слышишь, время! Я тебя люблю —
В твоем отрезке дважды я родился, —
Буди меня, как Муромца Илью, —
Не распинай за то, что пробудился.
* * *
Все разошлись и вновь пришли,
Опять уйдут, займутся делом.
А я ото всего вдали,
С. тобою в доме опустелом.
События прожитого дня,
И очереди у киоска,
И вести траурной полоска —
Не существуют для меня.
А я не знаю ничего,
И ничего не понимаю,
И только губы прижимаю
К подолу платья твоего.
ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ
Чтоб желтый цвет безумного Ван-Гога,
Его бес-смертный, интенсивный цвет,
Стал музыкой,
Потребовалось много
Холста и краски, сплетен и клевет.
Боясь, что цвет звучит излишне глухо, —
Чтоб доказать Гогену правоту,
Ван-Гог отрезал собственное ухо
И кровью прилепил его к холсту.
Цыганка вечно занята гаданьем.
Художник хочет все запечатлеть.
Мы поклялись, что желтый цвет не станем
Разменивать на золото и медь.
Художник в желтом цвете вдохновенья
Искусство с жизнью,
На пределе сил,
Как двух миров разрозненные звенья,
В единое звено объединил.
И музыкою живопись лучится,
От музыки исходит благодать, —
И у искусства
Хочет жизнь учиться,
Чтоб все его ошибки воссоздать.
И снова в желтом цвете неистленном
Художник от холстов на чердаке
Бросается вдогонку за Гогеном,
Сжимая нож в измученной руке.
* * *
Какие-то запахи детства стоят
И не выдыхаются.
Медленный яд
уклада,
уюта,
устоя.
Я знаю — все это пустое,
Все это пропало,
распалось навзрыд,
А запах не выдохся, запах стоит.
ДВА ОТРЫВКА
1
Громко ахала весна —
Снег взрывали,
И в подвале
Нарушалась тишина.
Переулок мой Лебяжий,
Лебедь юности моей.
Крыша, крашенная сажей,
А над ней
Бумажный змей.
Змей бумажный...
Голубь важный
По карнизу семенит.
Дом старинный, трехэтажный,
Бицепсы кариатид.
Змей бумажный тянет в небо
Нитку длинную свою.
На мосту
В исходе нэпа
Папиросы продаю:
— Папиросы «Бокс»! А ну-ка!
Ну-ка, пять копеек штука!
Если оптом,
Пачка рубль —
Три четвертака за труд.
Видно, нэп идет на убыль —
Папиросы не берут.
2
Я в детство поглядел...
У игрока
Холодная,
Холеная
Рука.
Под ватою
Покатое
Плечо;
И сердце, бьющееся горячо.
Извозчик получает серебром,
Распахивает двери ипподром.
И я живу —
Страстей веселых раб.
Изучен покер, преферанс и фрапп,
И за последним лихачом столицы,
От ипподрома за одну версту,
Последний снег отчаянно клубится
И удесятеряет быстроту.
Отец ворчал, что отпрыск не при деле.
Зато колода в лоск навощена.
И папироски в пепельницах тлели
Задумчивым огнем...
Как вдруг — война...
С ВОЙНЫ
Нам котелками
нынче служат миски,
Мы обживаем этот мир земной,
И почему-то проживаем в Минске.
И осень хочет сделаться зимой.
Знакомим с опереттою друг друга,
А в нас двоих
трагедия еще
Не кончилась,
и, скрученные туго,
Две самокрутки пышут горячо.
Поклонником я был.
Мне страшно было.
Актрисы раскурили всю махорку.
Шел дождь.
Он пробирался на галерку.
И первого любовника знобило.
Мы жили в Минске муторно и звонко
И пили спирт, водой не разбавляя,
И нами верховодила девчонка,
Беспечная, красивая и злая.
Наш бедный стол
всегда бывал опрятен
И, вероятно, только потому,
Что чистый спирт не оставляет пятен, —
Так воздадим же должное ему!
Еще война бандеровской гранатой
Влетала в полуночное окно,
Но где-то рядом, на постели смятой
Спала девчонка
нежно и грешно.
Она недолго верность нам хранила
Поцеловала, встала и ушла.
Но перед этим
что-то объяснила
И в чем-то разобраться помогла.
Как раненых выносит с поля боя
Веселая сестра из-под огня,
Так из войны, пожертвовав собою,
Она в ту осень вынесла меня.
И потому,
однажды вспомнив это,
Мы станем пить у шумного стола
За балерину из кордебалета,
Которая по жизни нас вела.
ОТПУСКНИК
Лицо желтее воска,
От голода мертво.
В моих руках авоська
И больше ничего.
И ноги, точно гири,
Не движутся никак.
Кочую по Сибири
В ночных товарняках.
Картошку уминаю
Наперекор врагу.
Блокаду вспоминаю —
Наесться не могу.
Есть озеро лесное,
Зовется Кисегач.
Там нянчился со мною
Уральский военврач.
И, пожалев солдата,
Который слаб и мал,
Мне два продаттестата
На отпуск подписал.
Один паек — сбываю
За чистое белье.
Другой паек — съедаю.
(Привольное житье!)
Пилотка подносилась,
И сапоги не те.
Борщей маршрутных силос
Играет в животе.
Страшнее страшных пыток
И схваток родовых
Меня гнетет избыток
Познаний путевых.
Трескучим самосадом
Прерывисто дышу.
Году в семидесятом
Об этом напишу.
ЭШЕЛОН
Он водою из котелка
Умывается на откосе,
Ножки скручивает он козьи
Фитинового табака.
Дым над ним заклубился сизый,
Кольца вьются, столбы стоят, —
Установлено экспертизой,
Что табак этот — сущий яд.
Курит. Щурится. Благодать!
Вспоминает пустое что-то.
С места двигаться неохота.
Как бы, думает, не отстать.
Между тем паровоз все чаще
Выдыхает пары,
и вот
Старый колокол дребезжащий
Отправление подает.
Словно чашки колотят об пол, —
Но не слышит он ничего.
Между тем эшелон потопал,
И уже не догнать его.
Воду Ладоги из шелома
Не испить ему, не испить,
Совершенного не избыть, —
Ах, отстал он от эшелона.
Волховстрой. 41-й год.
За проступки такого рода
Стенка или штрафная рота, —
Меньше Родина не дает.
В чем же перед войной и миром
Так заведомо виноват
Этот ставший вдруг дезертиром,
Чуть отставший от всех солдат?
Если так вот поступит каждый,
Мы не выиграем войны, —
И поэтому жизнь отдашь ты
В искупление невины.
Невины... Но непоправимо
Ты отстал уже навсегда,
И холодные клочья дыма
Оседают на провода.
* * *
Вл. Приходько
Две книги у меня.
Одна
«Дорога далека».
Война.
Другую «Ветровым стеклом»
Претенциозно озаглавил
И в ранг добра возвел, прославил
То, что на фронте было злом.
А между ними пустота —
Тщета газетного листа...
«Дорога далека» была
Оплачена страданьем плоти, —
Она в дешевом переплете
По кругам пристальным пошла.
Другую выстрадал сполна
Духовно.
В ней опять война.
Плюс полублоковская вьюга.
Подстрочники. Потеря друга.
Позор. Забвенье. Тишина.
Две книги выстраданы мной.
Одна — физически.
Другая —
Тем, что живу, изнемогая,
Не в силах разорвать с войной.
РАЗГОВОР С ОТЦОМ
Срок всему. И, скоро ли, не скоро,
Жизнь моя приблизится к концу —
Я уйду к любимому отцу,
Не для разговоров, не для спора.
Он был нрав во всем. А я, неправый,
Долго жил после разлуки с ним,
На его позиции тесним
Ходом жизни, грозной и лукавой.
Правде лишь подведомствен святой
Был отец, — лишь правде непосильной.
И от жизни под плитой могильной
Со своей укрылся правотой.
Он твердил мне, что добро — добро,
А не зло, — и суть вопроса в этом.
Ну, а я ему: старо, старо!
Разве смысл иной тебе не ведом?!
Был неправ. Но ошибался честно.
И от расставания за миг
Истины отцовские постиг, —
Но отцу об этом неизвестно.
Если в жизни было что-нибудь.
Если в жизни что-нибудь и было, —
Это окружной железный путь,
Под маршрутами гудящий стыло.
Еду в эшелоне на войну,
Возле самых рельс окоп копаю.
Всей своей неправоты вину,
Так и не осмыслив, искупаю.
Правый бой веду с врагами, но...
Значит, я хоть что-нибудь да стою,
Если над своей неправотою
Подниматься было мне дано.
Но не доисполшо долг тяжелый,
Если за ушедшим по пятам
Кану в землю и останусь там
Горсткой пепла, мудрой и бесполой,
ДЕСАНТНИКИ
1
Воз
воспоминаний
с места строну...
В городе, голодном и израненном,
Ждали переброски на ту сторону,
Повторяли, как перед экзаменом.
Снова
Повторяли все, что выучили:
Позывные. Явки. Шифры. Коды.
Мы из жизни
беспощадно вычли
Будущие месяцы и годы.
Скоро спросит,
строго спросит Родина
По программе, до сих пор не изданной,
Все, что было выучено, пройдено
В школе жизни,
краткой и неистовой.
Постигали
умных истин уймы,
Присягали
Родине и знамени.
Будем строго мы экзаменуемы, —
Не вернутся многие с экзамена
2
В снег Синявинских болот
Падал наш соленый пот,
Прожигая до воды
В заметенных пущах
Бесконечные следы
Впереди идущих.
Муза тоже там жила,
Настоящая, живая.
С ней была не тяжела
Тишина сторожевая.
Потому что в дни потерь,
На горючем пепелище,
Пела чаще, чем теперь,
Вдохновеннее и чище.
Были битвы и бинты,
Были мы с войной на «ты»,
Всякие видали виды.
Я прошел по той войне,
И она прошла по мне, —
Так что мы с войною квиты.
3
Мы под Колпином скопом стоим,
Артиллерия бьет по своим.
Это наша разведка, наверно,
Ориентир указала неверно.
Недолет. Перелет. Недолет.
По своим артиллерия бьет.
Мы недаром Присягу давали.
За собою мосты подрывали, —
Из окопов никто не уйдет.
Недолет. Перелет. Недолет.
Мы под Колпином скопом лежим
И дрожим, прокопченные дымом.
Надо все-таки бить по чужим,
А она — по своим, по родимым.
Нас комбаты утешить хотят,
Нас, десантников, армия любит...
По своим артиллерия лупит —
Лес не рубят, а щепки летят.
4
Мне цвет защитный дорог,
Мне осень дорога —
Листвы последний ворох,
Отцветшие луга.
Кленовый стяг похода,
Военный строй вдали,
Небесная пехота —
.Грачи и журавли.
Мне цвет защитный дорог,
Мне осень дорога —
Листвы бездымный порох,
Нагие берега.
И холодок предзорный,
Как холод ножевой,
И березняк дозорный,
И куст сторожевой.
И кружит лист последний
У детства на краю,
И я, двадцатплетннй,
Под пулями стою.
ПРИВЫЧКА
В Татищеве
бревна
с вокзала
Пехотная рота таскала.
От постных казарменных щей
Не спорилась эта работа.
Хранилище для овощей
Пехотная строила рота.
Шагала она тяжело
Под бревнами, по двое, в ногу...
Кой-как — по бревну, понемногу
Строительство все-таки шло... —
Саратовский хмурый крестьянин,
Который под Тулой в бою
Был в руку осколками ранен,
Не чувствовал ношу свою.
Он шел, пожилой и согбенный,
Солдат запасного полка.
По виду совсем не военный,
Хотя и в пилотке пока.
Пылила дорога сухая,
И, зря не расходуя сил,
Крестьянин шагал, отдыхая,
Моршанской махоркой дымил.
Он шел широко и блаженно,
Совсем не считая за труд
Бревно... Не бревно, а полено...
Которое двое несут.
Ему ничего не мешало...
А сзади, не слаб и не мал,
Под тем же бревнышком устало
Мальчишка военный шагал.
Дитя богатырского склада,
Кумир стадионов и школ,
Он даже храпел от надсада,
Шатался, но все-таки шел.
Плечо затекло и гудело,
Ходил оголтело кадык...
Привычка! Великое дело.
Потом-то он тоже привык...
Любую работу исполнит,
И даже бывает смешно,
Когда отвлечется и вспомнит
Тяжелое это бревно.
А в ту многотрудную осень
Пришлось молодцу тяжело.
Досталось мальчишке —
И очень!
Да, видно, на пользу пошло.
ПУТЬ
Вот путь. Намотали его на колеса.
Деревья стоят вдоль него и столбы,
Фанерные звезды, прибитые косо, —
Последние знаки солдатской судьбы.
Вот путь. Всё подъемы. Подъемы и спуски.
Развилина. Веха. Мощеный объезд.
А то и проселок, протяжный по-русски,
Как песня, которая не надоест.
Он хлещет наотмашь меня колеями,
К подошвам моим пристает,
Бросается под ноги всеми полями
И всеми лесами встает.
.
* * *
Дитя прекрасно. Ясно это?
Оно — совсем не то, что мы.
Все мы — из света и из тьмы,
Дитя — из одного лишь света.
Оно, бессмысленно светя,
Как благо, не имеет цели.
Так что не трогайте дитя,
Обожествляйте колыбели.
* * *
Не обладаю правом
впасть в обиду.
Мой долг... Но я, ей-богу, не в долг
По лестнице сбегу. На площадь выйду.
Проталины увижу на снегу.
Тебя не вправе упрекнуть в измене,
По всем счетам я заплатил сполна, —
И праздную свое освобожденье, —
А на снегу — проталины. Весна.
МОНОЛОГ НРАВОУЧИТЕЛЬНЫЙ
Первых сплетен осклизлые плети
Над твоей нерешенной судьбой:
Говорят, что по блату
в балете
Может сделать карьеру любой.
Может сделать карьеру любая,
Лишь бы сделаться вдруг протеже.
В лебедином луче погибая,
Ты воскреснешь Плисецкой уже.
Но не станешь, как лебедь, крылата:
У искусства особая стать, —
Невозможно при помощи блата
Умирающим Лебедем стать.
ОТТЕПЕЛЬ
С крестами или без крестов,
Московских сорок сороков
Всю зиму ждали с неба
Хоть горсть сухого снега.
Но таяло и таяло,
Как будто бы Италия.
Не забелели купола,
Им небо снега не дало,
Всю зиму оттепель была.
Зимы в ту зиму не было.
* * *
Зачем, зачем нам обживать
Смешную эту комнатушку —
Такую узкую кровать,
Такую жесткую подушку,
Глаза на правду закрывать,
Безумье называть судьбою?..
Зачем, зачем нам обживать,
Когда не жить, не жить с тобою?..
ИЗ ДНЕВНИКА
В объятьях Таганрога,
В гостинице чужой,
Вид из окна
немного
Знакомый и чудной.
Глядит, глядит в молчанье
Приезжий старожил,
Как под окном
мещане
Прогуливают жир.
И пена к непогоде
У моря на усах.
Весенний день в исходе
На солнечных часах.
Гостиница чужая
Для жизни не годна, —
Заботой окружая,
Кощунствует она.
И на душу угрюмо,
Безрадостно легло
Предпраздничного шума
Широкое крыло.
И я живу не сладко,
Себе и вам не впрок, —
Проклятая оглядка,
Пугливый шепоток.
Закуривая важно,
Плетусь по этажу,
Бессмысленно и влажно
На женщину гляжу.
И улыбаюсь реже,
И про любовь не вру.
Хожу на побережье,
К чугунному Петру.
Чугунный и великий,
Оперся о гранит.
Посмертные вериги
С достоинством влачит.
Под ветром снасти гнутся,
Маяк зажег свечу.
В гостиницу вернуться
Уже не захочу.
К знакомым переехав,
Услышу в час ночной:
Покашливает Чехов
За тоненькой стеной.
И давит, давит ноша,
Которая стара,
Как море у подножья
Чугунного Петра.
СТРАХ
До полустанка — три версты с лихвою,
Но ежели кладбище пересечь,
То расстоянье сократится вдвое —
Игра, как говорится, стоит свеч.
Дорога по кладбищу — всех короче.
Ты это знаешь и по ней идешь,
Боишься мертвецов и что есть мочи
Бодришься, свищешь, сдерживаешь дрожь.
Ты трезв и молод, и не веришь в бога,
И никогда не молишься ему.
Так почему тебя страшит дорога
И мертвецы пугают? Почему?
В чем дело? Что с тобою? Непонятно...
Неужто же не выдержишь опять
И повернешься, побежишь обратно?
Так можно и на поезд опоздать.
Ну что ж, беги, спасайся, жди рассвета,
В стогу сыром дрожи и коченей.
Но будет ночь
Куда черней, чем эта,
С дорогою короче и страшней.
Пройдешь по ней,
Изведав муки ада,
И все-таки поймешь в конце концов:
Совсем не мертвецов бояться надо.
А ты, чудак, боялся мертвецов.
РИМ, ОДИННАДЦАТЬ ЧАСОВ
Дождь стучит на пишущей машинке...
Очередь толпится у ворот...
Черная коса из-под косынки —
Девушка по улице идет.
Ах, чулок пополз, иголки нету...
На углу каштаны продают...
Жалко неразменную монету
Разменять на несколько минут.
Руки в боки, ахает, бранится
Толстая швейцариха в дверях.
Ожиданьем скованные лица...
Долго ждет автобуса моряк...
Он глядит на девушку. Улыбка
Все лицо собою заняла...
Сердце бьется весело и шибко.
Дождь над Римом серый, как зола.
Сгрудились у лестничных перил...
Ждут приема. Думают о доме...
Кто-то сигарету закурил,
Струйка дыма в лестничном проеме...
Топчутся на месте тяжело,
Входят опоздавшие в ворота...
Ждут работы — наверху работа...
Солнце показалось и зашло...
Девушка в оконце слуховое
Сверху вниз глядит на моряка,
И записку легкая рука
Ловит на лету. В конторе двое...
Под машинный валик вложен лист.
Десять пальцев на костяшках клавиш..,
«Отошлешь меня или оставишь?..»
В лестничном пролете воздух мглист.
Под зонтами возле перекрестка
Ждут отцы. Весь город ждет и ждет...
Опадая в лестничный пролет,
Еле слышно крошится известка...
Стук машинки... Перепалка... Скрежет...
Надломилась лестница углом.
Не проем зияет, а пролом,
И какой-то свет в проломе брезжит...
Вой сирены. Площадь перекрыта...
Молча полицейские стоят...
Вдоль стены колеблется канат.
— Протяните руку, сеньорита... —
Ночь... Распорка из тяжелых бревен...
Отсветы реклам... Окно... Луна...
Кто
повинен,
виноват,
виновен?!
В операционной тишина.
Белизна. Висок покрылся потом...
Глохнет гул вчерашних голосов.
Девушка опять идет к воротам...
Город Рим... Одиннадцать часов...
* * *
Споры, свары, пересуды,
Козни, заговор, комплот.
Страх перед мытьем посуды
Женские сердца гнетет.
Дом велик, велик, велик...
Если ссора вдруг возникнет,
Если кто-нибудь и крикнет, —
Мало кто услышит крик.
А наутро мало кто
Будет знать, что в доме кто-то
Продал беличье манто
И пальто из коверкота.
Не распространится слух
О размолвке близких двух,
Проживающих в квартире
В людном доме,
В трудном мире.
Мир велик, и дом не мал...
Ты не слышал. Ты дремал.
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Хрип электрической сирены
В дом через окна, через стены
Доходит, прерывая сны,
Расходится по всей квартире:
Все знать должны, все знать должны,
Что мы живем в реальном мире,
Что этот коммунальный кров,
В ночных светил сиянье дивном, —
В реальнейшем из всех миров,
И, уж конечно, в объективном.
* * *
Твой дом стоит на берегу Москвы —
Реки, не замерзающей на зиму.
Твой дом напоминает пантомиму:
В нем все слова безгласны и мертвы.
В нем даже в дни сомнительных
торжеств
Преобладают мимика и жест.
Гвоздем забита форточка. Оконный
Бумагою заклеен переплет.
В твой дом не носят писем почтальоны,
И он ответов никому не шлет.
Твой дом — в тебе вместился целиком.
Его одни салоном называют,
Его зовут иные кабаком, —
Но те и эти часто в нем бывают.
Ты что ж? Решил салон в себе создать,
И самому себе письмом ответить,
И над ответом горестно рыдать,
И почерка похожесть не заметить?
Решил создать салон в себе самом,
Себе ответить самому письмом?!
* * *
Дагмара в Индии живет,
В ее обличье различимы
Черты тропических широт,
Угрюмый след поста и схимы.
Когда в московский зимний дом
Дагмара входит из метели,
Ей виски хочется со льдом,
Хоть рученьки закоченели.
И так уже который год,
Как будто в сари завернулась,
Дагмара в Индии живет,
Хотя в Москву давно вернулась.
СОНАТА
Когда восторг ударил в стены зала,
Как в дамбу бьют усталые моря,
— А все же страшно умирать, — сказала
Испуганная спутница моя.
После аллегро вечного в сонате
Та, кому все на свете трын-трава,
Простые и печальные слова
Произнесла как будто бы некстати.
Усталые восторги допоздна...
О нет,
соната не казалась длинной, —
Есть радость настоящая, — она
Как бы утомлена своей причиной.
Есть радость настоящая, как свет, —
Ни до чего на свете нет ей дела,
Как за концертом рихтеровским вслед
Усталые восторги без предела.
ЛЮДИ СЕНТЯБРЯ
Мы люди сентября.
Мы опоздали
На взморье Рижское к сезону, в срок.
На нас с деревьев листья опадали,
Наш санаторий под дождями мок.
Мы одиноко по аллеям бродим,
Ведем беседы с ветром и с дождем,
Между собой знакомства не заводим,
Сурово одиночество блюдем.
На нас пижамы не того покроя,
Не тот фасон ботинок и рубах.
Официантка нам несет второе
С презрительной усмешкой на губах.
Набравшись вдоволь светскости и силы,
Допив до дна крепленое вино,
Артельщики, завмаги, воротилы
Вернулись на Столешников давно.
Французистые шляпки и береты
Под вечер не спешат на рандеву,
Соавторы известной оперетты
Проехали на юг через Москву.
О, наши мешковатые костюмы,
Отравленные скепсисом умы!
Для оперетты чересчур угрюмы,
Для драмы слишком нетипичны мы.
Мигает маячок подслеповато —
Невольный соглядатай наших дум.
Уже скамейки пляжные куда-то
Убрали с чисто выскобленных дюн.
И если к небу рай прибит гвоздями,
Наш санаторий, не жалея сил,
Осенними и ржавыми дождями
Сын плотника к земле приколотил.
Нам санаторий мнится сущим раем,
Который к побережью пригвожден.
Мы люди сентября.
Мы отдыхаем.
На Рижском взморье кончился сезон.
* * *
Спит на паперти калека,
А в гостинице уют.
С восемнадцатого века
Не проветривали тут.
Слышу —
Пахнет русской печью,
Не топили печь давно, —
Надо распахнуть окно
В дым вечерний,
На Заречье.
Слышу —
Русской печью пахнет,
На окошке фикус чахнет, —
Надо подойти к окну, —
Чтобы сердце билось чаще,
Чтобы холодок знобящий
Спать бы не дал никому...
Не топили печь с восхода...
Ну и что же, ну и что ж,
Ведь такое время года —
И без печки не помрешь!
Там
Собор в Загорске вечен,
Колокольнями увенчан,
В каждом колоколе — бог.
Нищий,
Рваный и голодный,
Спит на паперти холодной,
Подложив костыль под бок.
Там
В окладах жемчуг крупен,
У монаха лик преступен,
Искажен гримасой рот.
В дымке Троица Святая,
А над ней воронья стая
Раскружилась и орет.
Там чернеют сучья голо
И в часовенке из пола
Бьет лечебная струя.
И над Троицким собором,
Оглашая воздух ором,
Вьется стая воронья.
ПОЧИНКА
Асфальт
для этих улиц непригоден,
Он сверху вниз потек бы, как вода.
Не напасешься обуви. Беда.
И холодом разит из подворотен.
На галереях —
суета и чад,
Скребут хозяйки медную посуду.
Холодные сапожники повсюду
Под бедными навесами стучат.
Крутой подъем к подметкам беспощаден,
Любому ходоку умерит прыть.
Детишки
обувь
разбивают за день,
А взрослые...
Да что тут говорить!..
Сапожник мой,
госмастерских противник,
Прижимист. Экономит матерьял.
Мы с ним договорились за полтинник,
Но он, как видно, мне не доверял:
— ОБХС ползет из всех лазеек,
И фининспектор
слишком частый гость. —
Когда я вынул пятьдесят копеек,
Он вбил в мою подметку лишний гвоздь
И, сохранив полтинник этот в тайне,
Закрыл свою хибару на засов.
Всю ночь собаки лают на Майдане,
А петухи горланят с трех часов.
И спится сон,
который связан с целой
Прожитой жизнью
и огнем багрим,
Как льющиеся высвеченной сценой
Развернутые ноги балерин.
А утром листья спелыми роями
Роятся над Тарзаном и Брижит,
И керосинщик в колокол бренчит,
И девочка играет на рояле.
Валяется сапожник, пьяный в дым.
Жена честит бродягу так и этак.
Но, как уланы под Бородиным,
Стоят подметки на моих штиблетах.
* * *
Памяти А. Фатьянова
В дом с мороза
входит Леша
В зимнем облаке седом.
Дух переводя с трудом,
На диване курит лежа.
И не видно из-за дыма,
Что способна смерть его
Изменить непоправимо
Облик города всего.
Говорят, что он покинул
И осиротил семью.
Что упал
И опрокинул
Полземли
На грудь свою.
Неужели
неземная
Одолела немота?!
Без него
зима —
иная
И Москва —
не та, не та...
Видно, люди есть такие,
Что тоска но ним
лютей,
Чем припадки ностальгии
На чужбине у людей.
ЗАКРЫТЫЙ ПОВОРОТ
Предо мной — закрытый поворот.
Знаю, не возьмешь его на бога.
Поворот закрытый —
это тот,
За которым не видна дорога.
Сбавил скорость.
Торможу.
Гужу.
Сам себе твержу: смотри не мешкай,
Этот поворот не мечен вешкой —
Он ведет к иному рубежу.
Поворот закрытый — не прямая.
Но, рассудку трезвому назло,
Полный газ внезапно выжимаю,
Чтобы зад машины занесло.
Где уж там аварий опасаться,
Если в жизни все наоборот,
Мне бы только в поворот вписаться,
В поворот, в закрытый поворот.
* * *
Снится, что умираю,
С края по круче иду,
Жажда томит — сгораю,
Закоченел на льду.
Падает с неба копоть,
На пол она летит,
Это опять, должно быть,
Лампа моя коптит.
Копоть кружится тихо,
Все тяжелей, все злей.
Ну-ка, фитиль прикрути-ка
И керосину долей.
Рухну с обрыва в бездну,
К звездам душой рванусь.
Кончусь. Уйду. Исчезну.
Может быть, скоро вернусь.
* * *
Порядок жизни
суетно-неистов, —
С утра на счетах щелкают в дому:
То этому за то отметку выставь,
То дай оценку точную тому.
Ну, а природе не нужна оценка,
В отметках не нуждается она.
Стволы осин
болотного оттенка,
Но в них преобладает желтизна.
Природа оценить себя не просит
И не ведет зачетным баллам счет.
Лось
в феврале
рога на землю сбросит,
Охотник
их в чащобе подберет.
И, обработав, установит цену,
И повезет на рынок продавать,
Чтоб кто-нибудь повесил их на стену
Там, где стоит двуспальная кровать.
НАДПИСЬ НА КНИГЕ
Всего опасней — полузнанья.
Они с историей на «ты» —
И грубо требуют признанья
Своей всецелой правоты.
Они ведут себя как судьи,
Они гудут, как провода.
А на поверку — в них, по сути,
Всего лишь полуправота.
И потому всегда чреваты
Опасностями для людей
Надменные конгломераты
Воинственных полуидей.
* * *
Что-то дует в щели,
Холодно в дому.
Подошли метели
К сердцу моему.
Подошли метели,
Сердце замели.
Что-то дует в щели
Холодом земли.
Призрак жизни давней
На закате дня
Сквозь сердечко в ставне
Смотрит на меня.
НА ПОЛЯХ ПЕРЕВОДА
Кура, оглохшая от звона, —
Вокруг нее темным-темно.
Над городом Галактиона
Луны бутылочное дно.
И вновь из голубого дыма
Встает поэзия, —
Она
Вовеки непереводима —
Родному языку верна.
* * *
Запретный Плод, не сорванный никем,
На землю пал, зарылся в прель глубоко, —
И яблоня стоит, как манекен,
Добра и Зла лишенная до срока.
Но минет срок, и яблоня опять
Запретными плодами отягчится,
О, только бы случайно не сорвать,
Добру и Злу опять не обучиться!
Мы объявили яблоку бойкот,
Вкушать не станем ни в гостях, ни дома.
Пусть искуситель Змий напрасно ждет
И торжествует формула Ньютона.
* * *
Смена смене идет...
Не хотите ль
Убедиться, что все это так?
Тот — шофер, ну а этот — водитель,
Между ними различье в летах.
Тот глядит на дорогу устало
И не пар выдыхает, а дым.
Чтоб в кабине стекло обметало,
Надо все-таки быть молодым.
А у этого и половины
Жаркой жизни еще не прошло, —
И когда он влезает в кабину,
Сразу запотевает стекло.
* * *
В отрезке от шести и до восьми
На этажах будильники звонили;
В подъездах люди хлопали дверьми,
На службу шли. А мертвый спал в могиле.
Мне вспоминалась песенка о том,
Как человек живет на белом свете,
Как он с мороза входит в теплый дом,
А я лежу в пристрелянном кювете.
Воспоминанье двигалось, виясь,
Во тьме кромешной и при свете белом,
Между Войной и Миром — грубо, в целом —
Духовную налаживая связь.
НОВЫЙ ВОЗРАСТ
Плясало надменное пламя,
И я, выбиваясь из сил,
Ненужными бредил делами
И лишние вещи носил.
Но ветер-предзимник лютует,
И волос почти поседел,
И возраст
Сурово
Диктует
От лишних избавиться дел.
Насущное видится резче
Глазами разумной жены.
Прощайте, ненужные вещи, —
О, как вы мне были нужны!
Останется нужная только,
Нужнейшая самая часть.
Но жизни заметная долька
От жизни успела отпасть.
СЕРПУХОВ
Прилетела, сердце раня,
Телеграмма из села.
Прощай, Дуня, моя няня, —
Ты жила и не жила.
Паровозов хриплый хохот,
Стылых рельс двойная нить.
Заворачиваюсь в холод,
Уезжаю хоронить.
В Серпухове на вокзале,
В очереди на такси:
— Не посадим, — мне сказали,
Не посадим, не проси.
Мы начальников не возим.
Наш обычай не таков.
Ты пройдись-ка пёхом восемь
Километров до Данков...
А какой же я начальник,
И за что меня винить?
Не начальник я —
печальник,
Еду няню хоронить.
От безмерного страданья
Голова моя бела.
У меня такая няня,
Если б знали вы, была.
И жила большая сила
В няне маленькой моей.
Двух детей похоронила.
Потеряла двух мужей.
И судить ее не судим,
Что, с землей порвавши связь,
К присоветованным людям
Из деревни подалась.
Может быть, не в этом дело,
Может, в чем-нибудь другом?..
Все, что знала и умела,
Няня делала бегом.
Вот лежит она, не дышит,
Стужей лик покойный пышет,
Не зажег никто свечу.
При последней встрече с няней
Вместо вздохов и стенаний
Стиснул зубы — и молчу.
Не скажу о ней ни слова,
Потому что все слова —
Золотистая полова,
Яровая полова.
Сами вытащили сани,
Сами лошадь запрягли,
Гроб с холодным телом няни
На кладбище повезли.
Хмур могильщик. Возчик зол.
Маются от скуки оба.
Ковыляют возле гроба,
От сугроба до сугроба
Путь на кладбище тяжел.
Вдруг из ветхого сарая
На данковские снега,
Кувыркаясь и играя,
Выкатились два щенка.
Сразу с лиц слетела скука,
Не осталось ни следа.
— Все же выходила сука,
Да в такие холода...
И возникнул, вроде скрипок,
Неземной какой-то звук.
И подобие улыбок
Лица высветлило вдруг.
А на Сретенке в клетушке,
В полутемной мастерской,
Где на каменной подушке
Спит Владимир Луговской,
Знаменитый скульптор Эрнст
Неизвестный
глину месит,
Весь в поту, не спит, не ест,
Руководство МОСХа бесит,
Не дает скупать Москве,
Не дает засохнуть глине.
По какой-то там из линий,
Слава богу, мы в родстве.
Он прервет свои исканья,
Когда я к нему приду,
И могильную плиту
Няне вырубит из камня.
Ближе к пасхе дождь заладит,
Снег сойдет, земля осядет —
Подмосковный чернозем.
По весенней глине свежей,
По дороге непроезжей
Мы надгробье повезем.
Ну так бей крылом, беда,
По моей веселой жизни,
И на ней
ясней
оттисни
Образ няни — навсегда.
Родина моя, Россия...
Няня, Дуня, Евдокия...
БАЛЛАДА ВОЗРАСТА
Вот и назвали наконец
Меня отцом. Вот и назвали...
Какой-то парень на вокзале:
— Подвинься, — говорит, — отец...
Кто я такой? Ни вождь, пи гений...
А вот признал во мне отца —
И сделал это от лица,
Как говорится, поколений.
Достанет ли ума и сил...
Как говорится, все по плану, —
И не обидно, — сыном был,
Теперь отцом, как видно, стану,
Под Новый год заместо льгот,
Не в ублажение гордыне,
Я наречен отцом. Отныне
Особый возраст настает.
Я был помилован свинцом,
Но время милостей не знает, —
Признает или не признает,
Что я достоин быть отцом?
ПРЕДВОЕННАЯ БАЛЛАДА
Сороковые, роковые...
Д. Самойлов
Д. Самойлов
Летних сумерек истома
У рояля на крыле.
На квартире замнаркома
Вечеринка в полумгле.
Руки слабы, плечи узки, —
Времени бесшумный гон, —
И девятиклассниц блузки,
Пахнущие утюгом.
Пограничная эпоха,
Шаг от мира до войны,
На «отлично» и на «плохо»
Все экзамены сданы.
Замнаркома нету дома,
Нету дома, как всегда.
Слишком поздно для субботы
Не вернулся он с работы, —
Не вернется никогда.
Вечеринка молодая —
Времени бесшумный лёт.
С временем не совпадая,
Ляля Черная поет.
И цыганский тот анапест
Дышит в души горячо.
Окна звонкие крест-накрест
Не заклеены еще.
И опять над радиолой,
К потолку наискосок,
Поднимается веселый.
Упоительный вальсок.
И под вальс веселой Вены,
Шаг не замедляя свой,
Парами —
в передвоенный,
Роковой, сороковой.
ЗА ЛАДОГОЙ
Владимиру Лифшицу
Снится мне, что машину с водой
У землянки оставил на стуже.
Это дело чревато бедой —
Все равно что испортить оружье.
Гнал машину за Ладогу, в тыл,
На сиденье промерзшем елозил.
Ах ты господи, воду не слил...
Неужели движок разморозил...
Мне комбатом совсем не за так
Эта самая ездка обещана.
Если выбьет заглушку — пустяк,
Хуже — если на корпусе трещина.
По настилу к машине бегу.
Моросянка. Бусит как из сита.
Коченеет мой «газик» в снегу,
А вода, как положено, слита.
Возле печки валюсь досыпать, —
Но, пристроясь к сердечному стуку,
Возникает в землянке опять
Тот же сон, — хорошо, что не в руку.
* * *
Ну, а дальше что? Молчанье. Тайна.
Медсестра лениво прячет шприц.
Четверо солдат — не капитаны,
И комбат — Протасов, а не принц.
И не Эльсинор, а край передний,
Мокрый лог, не рай, а сущий ад.
Знал комбат, что делает последний,
Как в газетах пишется, доклад.
Волокли его на волокуше,
Навалили ватники — озноб.
Говорит. А голос — глуше, глуше,
До глубин души — и глубже, в души,
Как в газетах пишут, — до основ.
Молвит, умирая: или — или;
Долг — стоять, но право — отойти.
Егерей эсэсовцы сменили,
А у нас резерва нет почти.
Слева полк эсэсовский, а справа...
Не договорил...
Навечно смолк...
Есть у человека — долг и право...
Долг и право... долг и право... Долг...
* * *
Памяти Семена Гудзенко
Полумужчины, полудети,
На фронт ушедшие из школ...
Да мы и не жили на свете, —
Паш возраст в силу не вошел.
Лишь первую о жизни фразу
Успели занести в тетрадь, —
С войны вернулись мы и сразу
Заторопились умирать.
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ...
Сорок пятый год
перевалил
Через середину,
и все лето
Над Большой Калужской ливень лил,
Гулко погромыхивало где-то.
Страхами надуманными сплошь
Понапрасну сам себя не мучай.
Что, солдат, очухался? Живешь?
Как живешь?
Да так. На всякий случай.
И на всякий случай подошел
К дому на Калужской.
— Здравствуй, Шура! —
Там упала на чертежный стол
Голубая тень от абажура.
Калька туго скатана в рулон.
Вот и все.
Диплом закончен.
Баста!..
Шура наклонилась над столом,
Чуть раскоса и слегка скуласта.
Шура, Шура!
Как ты хороша!
Как томится жизнью непочатой
Молодая душная душа, —
Как исходит ливнем сорок пятый.
О, покамест дождь не перестал,
Ров смертельный между нами вырой.
Воплощая женский идеал,
Добивайся, вей, импровизируй.
Ливень льет.
Мы вышли на балкон.
Вымокли до нитки и уснули.
Юные. В неведенье благом.
В сорок пятом... Господи... В июле.
И все лето длится этот сон,
Этот сон, не отягченный снами.
Грозовое небо
Колесом
Поворачивается
Над нами.
Молнии как спицы в колесе,
Пар клубится по наружным стенам.
Черное Калужское шоссе
Раскрутилось посвистом ременным.
Даже только тем, что ты спала
На балконе в это лето зноя,
Наша жизнь оправдана сполна
И существование земное.
Ливень лил все лето.
Надо мной
Шевелился прах грозы летучей.
А война закончилась весной, —
Я остался жить на всякий случай.
А ТАМ ВСЕ ТАК ЖЕ МОРЕ БЬЕТ...
А там все так же море бьет
По дамбе гулкой и щербатой.
Но ты не та и я не тот,
Какими были мы когда-то.
И все же это я
опять,
Оглохнув от морского гула,
Иду, как будто время вспять
Легко и круто повернуло.
И ты, в обличье молодом,
Нетвердо, как под коромыслом,
Удерживаешься с трудом
На камне узком и осклизлом.
Все так же в дамбу бьет прибой
Неистощимыми волнами.
И все же это мы с тобой,
Мы -
Следующие за нами.
Неистощимо бытие:
И волны, и загар на коже
Такой же, как у нас, такой же
И у него и у нее.
Мои ровесницы увяли,
Пообветшала жизнь моя.
И под ногой
На перевале
Нагая, жесткая земля.
Но, возникая вновь из пены,
Тебе на смену, в свой черед,
По ходу действия, на сцену
Вдоль дамбы женщина идет.
Она, ликуя всей утробой,
Все той же движется тропой,
Раскачиваясь между злобой
И бабьей жалостью слепой.
И потому необходимо
Глазами, сердцем и умом
Узреть вовне
Все то, что зримо,
Вовне,
А не в себе самом.
И ведать, как пришли к победе
Титаны и богатыри
По ходу греческих трагедий,
Где мир вовне,
А не внутри.
Прервал дневник на полуслове,
Живу не по календарю —
И отрешенней и суровей
На собственную жизнь смотрю.
ГОЛОС РУСТАВЕЛИ У СТЕН КРЕСТОВОГО МОНАСТЫРЯ
Зачем
богоотступничество
мне
В вину вменяют
И грозят расплатой,
Когда на свете
о моей вине
Ты ведаешь один,
Мой Бог распятый?
Расселин горных
Образ неземной,
Поверженных во прахе — утешитель,
Обиженных — укромная обитель,
Страды великой
Незакатный зной.
Ты —
Свет во тьме,
Пролитый щедрой чашей
С небес па землю...
Там и здесь — един
Ты —
Верой обретенная крепчайшей
Причина высочайшая причин.
От колыбели и до дней последних
И перейдя последнюю межу,
Я — твоего завета исповедник —
Всем существом тебе принадлежу.
Все, что во мне созрело, —
Слово, Дело,
Все, что зачахло,
Каждое зерно, —
Тобой,
Неотвратимо и всецело,
В меня однажды было внедрено.
Благодаря твоей всевышней власти,
Аз есмь не зверь...
не зверь...
но Человек...
В дороге долгой
Одолел напасти
И заблуждений горестных избег.
Учение твое — превыше правил...
Ты,
наставляя жить не по злобе,
Спас от греха,
на правый путь направил
Небесным откровеньем:
«Бог в тебе...»
И если в чем-то я ошибся все же, —
О прегрешеньях суетных моих
Ты, Вездесущий,
узнавал не позже,
Всеведающий,
ведал в тот же миг.
Не знаю,
похулишь или похвалишь, —
Лишь твоему подсуден я суду,
Судья всевышний мой,
И от тебя лишь
Великодушья и прощенья ищу.
Мой разум и сознанье
Высшим даром
Я почитал, не ведая вины,
Ибо они
Из всех существ
Недаром
Лишь человеку только и даны.
Ты поклоненья требовал слепого,
Коленопреклоненья одного, —
Но только мысли,
воплощенной в слово,
Я поклонялся, веря в естество.
И если в замысле твоем высоком
Я человеком был,
И если ты
Однажды взвесил совершенным оком
Мои несовершенные черты;
И если ты
Печаль и радость —
Разом —
Дал мне вкусить на праведном пути, —
То я желал
Раскрепощенный разум,
Освобожденье мысли
Обрести.
Нежней молитвы и мощней хорала
Вошло желанье это в бытие.
Избави Бог, чтоб жизнь меня карала
За это вот желание мое!
Но если ты желанье это все же
Сочтешь за грех, помыслив о плохом,
То где тогда, не ведаю, о Боже,
Граница меж грехом и не грехом?!
Не осуждай меня...
Из дальней дали,
Недугами согбен, полуживой,
Пришел к тебе, поникнув головой,
Колени преклонив,
Проситель твой
От имени желанья и печали.
Зачем
богоотступничество
мне
В вину вменяют
И грозят расплатой,
Когда на свете
о моей вине
Ты ведаешь один,
Мой Бог распятый?!
ГОЛОС РУСТАВЕЛИ В БЕЛОЙ КЕЛЬЕ
Кем ты была, Тамар?..
Стенаньями без края
И плачем без границ...
О чем печаль твоя?
Ты — божество,
ты — свет,
который, догорая,
Зашел за горизонт
земного бытия.
Была ли солнцем ты,
светилом полудённым?
Не знаю...
Но была,
воистину была
И голосом души,
и безысходным стоном,
Истоком стольких слез
без счета и числа.
И в тот же самый час,
как ты смежила веки,
Жизнь кончилась моя,
окутал душу мрак, —
И дар моей любви
угас,
угас,
навеки, —
Светильник догорел,
огонь души иссяк.
Но если был я жив
и если верил свято
В добро и красоту,
в свершенье и в порыв, —
Любовь
звалась моим
дыханием
когда-то, —
Любовью был я жив,
любовью был я жив.
И если мысль в моей
душе,
как на скрижали,
Начертана была,
цель жизни обнажив, —
И мысль моя и цель
любовь обозначали, —
Любовью был я жив,
любовью был я жив.
И если путь торил
до смертного предела,
В деянье претворял
души бессмертный пыл, —
Но имени любви
звалось любовью дело, —
Деяние мое...
Любовью жив я был.
Не ведает никто,
где истины обитель,
Пристанище,
дворец,
пещера,
кров,
жилье.
Но истины ничуть
я, грешный, не обидел
Тем, что любовь считал
пристанищем ее.
Что я теперь?
Сосуд,
осушенный на пире,
Способный лишь звенеть,
зияя пустотой,
Или древесный ствол,
который подрубили
Под корень
на скале
высокой и крутой.
Кто я теперь?
Скала,
с отвесных круч
в ущелье
Поверженная ниц
обвалом
наповал.
И чем еще жива
душа
в усталом теле?
Остаток тайных сил
исчерпался, пропал.
В растерзанной груди
нет сердца.
Немотою
Объяты небеса.
Земля, как ночь, слепа.
У жизни на краю,
перед могилой стоя,
Дивлюсь, как тяжела
последняя стопа.
Отсюда не слышны
назойливые речи
Тех, кто винил меня
в безбожии за то,
Что я любил тебя.
О, это бессердечье, —
В сравненье с ним само
безбожие —
ничто.
Пусть, как и ты, Тамар,
путь продолжать не в силе,
Умру, перешагнув последнюю черту.
Пусть, как и ты, Тамар,
Могилу — в безмогилье,
Затерянный в ночи,
Навечно обрету.
Пусть времени река
течет неистощимо,
Колоколами тризн
вторгаясь в торжество.
Пусть шествуют века
и поколенья
мимо
Сокрытого от глаз
приюта моего.
Кем ты была, Тамар?..
Стенаньями без края
И плачем без границ...
О чем печаль твоя?
Ты — божество,
ты — свет,
который, догорая,
Зашел за горизонт
земного бытия.
ТЕЛЕФОН
Провожают в путь поэта,
В путь без рытвин и без ям,
Ретушь резкого портрета
С черным крепом по краям.
В конференц- и прочем зале,
Занавесив зеркала,
Все покойнику сказали,
Что душа его ждала.
С каждым словом лик туманней, —
Запечатлевай, спеши...
Людно в зале заседаний,
В кабинетах ни души.
Сквозь рыданья, всхлипы, стоны,
Поначалу одинок,
Сквозь Шопена
Телефонный
Пробивается звонок.
Он
Из секретариата,
Со второго этажа,
В зал доходит глуховато,
Чуть заметно дребезжа.
Продолжается работа,
Не скудеет жизни пыл.
Ах, не вовремя же кто-то
Но вертушке позвонил.
Подошла к развязке драма,
Плачет женщина навзрыд.
С интервалами
Упрямо
Телефон звонит, звонит.
Вот второй вступил и третий,
Призывают горячо, —
Много дел на этом свете
Недоделано еще.
Слышат, как загомонили
Телефоны на столе,
Под землей во мгле Вергилий,
Беатриче па земле.
И наперекор Плакиде,
Перервав последний сон,
На гражданской панихиде
Сквозь Шопена — телефон.
* * *
Отненавидели и отлюбили,
Сделались тем, чем когда-то мы были,
И пребывали бесчувственно вплоть
До сотворенья из глины, из пыли —
Трогать нельзя ничего на могиле, —
Не исчезает бессмертная плоть.
В землю угрюмо потуплены взгляды.
Падают листья, и Муза поет,
И появляется из-за ограды
Черный, веселый кладбищенский кот.
МУЗЫ
Скорбь на лицах писательских жен.
...А казалось, он Байроном будет,
В людях лучшие чувства разбудит,
Оказалось же — просто пижон.
Был он светел и свят, как ребенок, —
А теперь (Ну и пусть! Ну и пусть!!)
Продавщицы из комиссионок
Знают вкусы его наизусть.
Боже, как он бездарен и плосок,
Как он пыжится — лопнет вот-вот.
Исполнитель, холуй, подголосок,
Сочинитель армейских острот.
Был он русым, а сделался рыжим,
Ибо мода теперь такова.
Был новатором, стал нуворишем,
И к тому же не помнит родства.
Все опошлить готов — анекдотчик:
Мол, стояли на том и стоим...
Любит он впечатлительных дочек,
Но погубит примером своим.
Что же это такое творится —
Пересуды, приемы, чины.
Жен писательских скорбные лица
Повседневностью удручены.
Эталоны развенчаны — липа,
Мельтешенье, натуга, апломб.
Милых Муз на банкеты Олимпа
Перестал поставлять Аполлон.
ВИЛЬНЮС
Вильнюс, Вильнюс, город мой!
Мокрый воздух так целебен, —
Так целителен молебен,
Приглушенный полутьмой.
Поселюсь в тебе тайком
Под фамилией Межиров.
Мне из местных старожилов
Кое-кто уже знаком.
У меня товарищ есть
Из дзукийского крестьянства:
Мужество и постоянство,
Вера, сдержанность и честь.
В чем-то он, должно быть, слаб,
Но узнать, в чем слабость эта,
У литовского поэта
Только женщина смогла б.
Прародительница, мать,
Ева, Ева, божье чадо,
Ты дерзнула познавать
То, чего и знать не надо...
Сыро в Вильнюсе весной,
Летом, осенью, зимой,
Но целебен воздух твой,
Вильнюс, Вильнюс, город мой!
ЧЕРНИГОВ
Была в Чернигове когда то
Кривая улица.
Над ней
Дома сутулились горбато,
Перемогая бремя дней.
Вид этой улицы был кроток,
Движенья невысок накал.
Лишь стук извозчичьих пролеток.
В дома чуть слышно проникал.
Пустого флигеля хозяин
Вернулся с первой мировой,
Вконец раненьями измаян
И от контузий сам не свой.
За ставнями, ломая руки
И принимая веронал,
Извозчичьих пролеток стуки
И шорохи он проклинал.
На мостовой
от дома к дому,
Вдоль тротуаров и дворов,
Он постелить велел солому
По указанью докторов.
Ему избавиться от хвори
Помог соломенный настил.
Хозяин выздоровел вскоре
И в шумный Киев укатил.
От той соломы на панели
Теперь не сыщешь и следа.
Так люди в старину болели,
Так жили
в давние года.
* * *
Все то, что Гёте петь любовь заставило
На рубеже восьмидесяти лет, —
Как исключенье, подтверждает
правило,
А правила без исключенья нет.
А правило — оно бесповоротно,
Всем смертным надлежит его блюсти:
До тридцати — поэтом быть почетно
И срам кромешный — после тридцати.
ШАХМАТИСТ
А у Мощенко шахматный ум, —
Он свободные видит поля,
А не те, на которых фигуры.
Он слегка угловат и немного угрюм, —
Вот идет он, тбилисским асфальтом пыля,
Высоченный, застенчивый, хмурый.
Видит наш созерцающий взгляд
В суматохе житейской и спешке
Лишь поля, на которых стоят
Короли, королевы и пешки.
Ну, а Мощенко видит поля
И с полей на поля переходы,
Абсолютно пригодные для
Одинокой и гордой свободы.
Он исходит из этих полей,
Оккупации не претерпевших,
Ибо нету на них королей,
Королев и подопытных пешек.
Исходить из иного — нельзя!
Через вилки и через дреколья
Он идет — не по зову ферзя,
А по воле свободного поля.
Он идет, исходя из того,
Что свобода — превыше всего, —
И, победно звеня стременами,
Сам не ведает, что у него
Преимущество есть перед нами.
* * *
Нисходит и к нам благодать временами —
И теща меня угощает блинами.
Но даже, но даже, но даже, но даже
В такую минуту, в такую минуту
Стоит злоумышленник тайный на страже,
Усмешку таит, угрожает уюту.
Гримасы он корчит на диво смешные,
И смотрят мне в спину глазищи большие.
Зашел со спины, за спиною таится,
И можно подумать — он тещи боится,
А может, боится меня самого,
А теща — блины выпекать мастерица,
А он ничего не боится на свете,
Он чист и наивен, как малые дети, —
И все-таки люди боятся его.
Блины разрумяные принесены,
Шипит раскаленного сала обмылок,
А он притаился, зайдя со спины,
И нежной травинкой щекочет затылок,
Хохочет в переполошенном дому.
Безвестен и голоден, честен и пылок, —
Спасибо, спасибо, спасибо
Ему!
ИРКУТСК
Оказывается,
плечо
От груза делается шире.
Оказывается
еще
В Москве — Сибирь, Москва — в Сибири.
О них была не просто весть...
Большак неровен. Гать из бревен,
Тайга, глухая, как Бетховен.
В Иркутск — через Иркутск-Второй —
Через мосты над Ангарой.
А позади — Ангарск. Он спрятан
За хвойной завесью ветвей.
Сибирский город без церквей —
Богоотступник — Братску брат он.
Валун прибрежный, камень донный —
Иркутск — вразброс и наобум,
Над Ангарой нагроможденный,
Ну, и для рифмы — Аввакум.
Надежно обжитой тремя
Столетьями кровосмешений,
Куражится Иркутск весенний,
Кривые улицы прямя.
Не зря меня сюда манило,
Притягивало и влекло:
Иркутск в холодное стекло
С твоим прищуром смотрит зло, —
Вот мы и встретились,
Марина...
РОДЕН
Покинув неприютную обитель,
Где статуи продрогли нагишом,
В проулке жил роденовский Мыслитель,
В Лебяжьем переулке небольшом.
Пил водку, запивал ее рассолом,
Натужно думал о добре и зле,
О гнете справедливом, но тяжелом,
О равенстве и братстве на земле.
Шла женщина в проулке под капелью.
Была весна. Мыслитель ощутил
Повадку позабытую кобелью,
Предшествующую
припадку сил.
Не то чтобы душа помолодела, —
Но отрешенно, жадно и темно
Всем телом эта женщина глядела
В его давно не мытое окно.
И, упиваясь зрячестью слепой,
Следил Мыслитель не без интереса
За взглядом, отрицающим собой
Наличье социального прогресса.
ОБЗОР
Замри на островке спасенья
В резервной зоне,
Посреди
Проспекта —
И покорно жди,
Когда спадет поток движенья.
Вот мимо запертых ворот,
Всклокоченный и бледный некто,
По левой стороне проспекта,
Как революция идет.
Вот женщина
Увлечена
Ногами длинными своими.
Своих прекрасных ног во имя
Идет по улице она.
БРАСЛЕТ
Затейливой резьбы
беззвучные глаголы,
Зовущие назад
к покою и добру, —
Потомственный браслет,
старинный и тяжелый,
Зеленый скарабей
ползет по серебру.
Лей слезы, лей...
Но ото всех на свете
Обид и бед земных
и ото всех скорбей —
Зеленый скарабей
в потомственном браслете,
Зеленый скарабей,
зеленый скарабей.
ШТРАФ
Мир везде и всюду одинаков, —
Изнывая от его щедрот,
Баранаускайте через Краков
По центральной улице идет.
Все грубы и наглы.
Чем же, кем же
Утешаться к тридцати годам
Баранаускайте, манекенше,
Разъезжающей по городам?
Здесь и там, то в Праге, то в Варшаве,
Все они грубы и наглы.
Но
Баранаускайте вправе, вправе
Тем же отвечать. И пить вино...
И —
В вечерний шелк полуодета,
А точнее — полунагишом —
Краковская гейша, с тенью гетто
На лице красивом и большом,
Голосом поставленным и резким,
Яркой краской увеличив рот,
Перепутав польское с еврейским,
Голубые песенкп поет.
Крупная, по-женски обжитая
И вполне здоровая на вид,
О любви и нежности мечтая,
По ночам тоскует и не спит.
Вот и разрушается здоровье,
Неполадки в теле молодом, —
И струя ветхозаветной крови
Через сердце движется с трудом.
Для чего ей новых мод шедевры,
Синей тушью подведенный взгляд,
Если не выдерживают нервы
И почти без повода шалят.
Лишь одна осталась ей свобода —
Вспоминать свою былую прыть
И, не соблюдая перехода,
Медленно проспект переходить.
Милиционеры, не зевайте,
Поскорей свистки пускайте в ход, —
Переходит Баранаускайте
Улицу не там, где переход.
Красные чулки и черный шарф,
Сумочка из кожи крокодила,
Баранаускайте платит штраф,
А квиток к витрине прилепила.
Поплевала на него — и шлен,
Так и припечатала квиточек,
Чтобы отучить, отвадить чтоб
Всех, до приставания охочих.
* * *
В руинах Рим, и над равниной
Клубится дым, как над котлом.
Две крови, слившись воедино,
Текут сквозь время напролом.
Два мятежа пируют в жилах,
Свободой упиваясь всласть, —
И никакая власть не в силах
Утихомирить эту страсть.
Какая в этом кровь повинна,
Какой из них предъявят счет?
Из двух любая половина
Тебе покоя не дает,
МОНОЛОГ ХУДОЖНИЦЫ
Воду в ступе устав толочь,
Все теории сбуду оптом, —
Абстрагироваться невмочь, —
Верят женщины
только опытам.
Эмпирический метод прост:
Посадить натурщицу в угол,
Раздобыть бумагу и холст,
Масло, кисть, карандаш и уголь.
Опыт!
Верой в тебя живу.
Даже смерть осознать — и тут ты
Помогаешь мне, когда рву
Неудавшиеся этюды,
ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ
...И обращается он к милой:
— Люби меня за то, что силой
И красотой не обделен.
Не обделен, не обездолен,
В поступках — тверд, а в чувствах —
волен,
За то, что молод, но умен.
Люби меня за то хотя бы,
За что убогих любят бабы,
Всем сердцем, вопреки уму, —
Люби меня за то хотя бы,
Что некрасивый я и слабый
И не пригодный ни к чему.
ПАМЯТИ УШЕДШЕЙ
Эта женщина жила,
Эта женщина была,
Среди сборища и ора
Потолкалась и ушла.
Как со сборища когда-то,
Озираясь виновато,
Ускользнула без следа, —
Так из жизни — навсегда
В мнимо-видимый успех
Разодета и обута,
Так ушла она, как будто
Обмануть сумела всех.
* * *
Люди, люди мои! Между вами
Пообтерся за сорок с лихвой
Телом всем, и душой, и словами, —
Так что стал не чужой вам, а свой.
Срок положенный отвоевавши,
Пел в неведенье на площадях,
На нелепые выходки ваши
Не прогневался в очередях.
Как вы топали по коридорам,
Как подслушивали под дверьми,
Представители мира, в котором
Людям быть не мешало б людьми.
Помню всех — и великих и сирых, —
Всеми вами доволен вполне.
Запах жареной рыбы в квартирах
Отвращенья не вызвал во мне.
Все моря перешел.
И по суше
Набродился.
Дорогами сыт!
И теперь, вызывая удушье,
Комом в горле пространство стоит.
ТБИЛИСИ. ЦЕХ
На склон
из ассирийского района
Выносят гроб с водителем такси.
Сирены воют.
(Господи, спаси!)
И горестно поют и разъяренно.
Дощатый гроб
над склоном чуть креня,
Толпа выходит на тропу крутую.
Нажала на клаксоны шоферня,
Соратнику и другу салютуя.
Кренится над оврагом виадук,
Кренится ноша медленно и тяжко.
Вдову
враскачку
под руки ведут,
Вся в черном,
убивается,
бедняжка.
У каждого шофера в голове
Простая мысль и явная забота:
Вполне возможно,
что моей вдове,
Как мы теперь,
поможет завтра кто-то.
Пусть обеднею.
Разорюсь пускай —
Зато сегодня разделю с вдовою
Все, что имею.
О, не иссякай,
Остаточное братство цеховое.
Лежит мертвец,
тяжел и недвижим,
В костюме полосатом, как в пижаме,
И лысые воробушки над ним,
И рыжий воздух выстрижен стрижами,
* * *
На заснеженном вокзале,
Отправляясь в дальний путь,
У вагона мы стояли,
Снег старались отряхнуть.
Над перроном выла вьюга,
Снег валился вкривь и вкось,
Отряхнуть его друг с друга
Нам тогда не удалось.
Уезжали из метели,
Уходили от зимы,
Не прошло и полнедели —
Угодили в лето мы.
Дождь накрапывал в Батуми,
Было сыро и тепло.
Акробатом на батуте
Бакен прыгал тяжело.
С кошельковой сетью сейнер
Как заржавленный утюг.
Все похоже здесь на север,
А на самом деле — юг.
Отпустили нас тревоги,
Отступили холода,
Снег растаял по дороге,
Не осталось ни следа.
* * *
В жизни парка наметилась веха,
Та, которую век предрекал:
Ремонтируем комнату смеха,
Выпрямляем поверхность зеркал.
Нам ошибки вскрывать не впервые,
Мы, позорному смеху назло,
Зеркала выпрямляем кривые,
Ставим в рамы прямое стекло.
Пусть не слишком толпа веселится,
Перестанет бессмысленно ржать, —
Современников доблестных лица
Никому не дадим искажать!
УСПЕХ
Что мне сказать о вас...
О вас,
Два разных жизненных успеха?
Скажу, что первый —
Лишь аванс
В счет будущего... Так... Утеха.
Что первый, призрачный, успех
Дар молодости, дань обычья, —
Успех восторженный у всех
Без исключенья и различья.
Второй успех
Приходит в счет
Всего, что сделано когда-то.
Зато уж если он придет,
То навсегда — и дело свято.
Обидно только, что второй
Успех
Не на рассвете раннем
Приходит к людям,
А порой
С непоправимым опозданьем.
НАД ДОМОМ
После праздника — затишье,
Но уже,
уже,
уже
Кто-то топает по крыше
На десятом этаже.
После праздничной бодяги
Встать до света — не пустяк.
Вкалывают работяги
На высоких скоростях.
Рождество отпировали
Управдому исполать.
Хорошо в полуподвале
На фундаменте плясать.
А наутро, по авралу,
Снег бросать с домовых крыш.
После праздника, пожалуй,
На ногах не устоишь.
Крыша старая поката,
Не видна из-подо льда.
Гиря, ломик и лопата —
Все орудия труда.
Богу — богово, а кесарь
Все равно свое возьмет, —
И водопроводный слесарь
С крыши скалывает лед.
Приволок из преисподней
Свой нехитрый реквизит.
После ночи новогодней
Водкой от него разит.
Он с похмелья брови супит,
Водосточную трубу
Гирей бьет, лопатой лупит:
— Сдай с дороги, зашибу!
Снегом жажду утоляя,
Дышит-пышет в рукава,
Молодая, удалая
Не кружится голова.
Потому что он при деле,
И, по молодости лет,
Не томит его похмелье,
И забот особых нет.
Хороши работы эти
Над поверхностью земли, —
Предусмотрены по смете
Сверхурочные рубли.
Хорошо, что этот старый
И усталый талый лед,
Падая на тротуары,
Расшибается вразлет.
* * *
Неровный строй домов сутулых,
Все в мире знающих про всех.
Лебяжий —
только переулок,
Не улица и не проспект.
Да и не переулок даже,
А так, проулок сто шагов-, —
Без лебедей и берегов —
И все ж воистину Лебяжий.
ЧЕРКЕШЕНКА
Был ресторанный стол на шесть персон
Накрыт небрежно. Отмечали что-то.
Случайный гость за полчаса до счета
Был в качестве седьмого приглашен.
Она смотрела на него с Востока,
Из глубины веков, почти жестоко,
Недоуменно:
«Почему мой муж,
Прославленный джигит, избранник муз,
Такое непомерное вниманье
Оказывает этому вралю,
Который в ресторане о Коране
Болтает, — мол, поэзию люблю?!»
Во всеоружье, при законном муже,
Полна недоуменья:
«Что за вид
У странного пришельца!
Почему же
Прекрасный муж к нему благоволит?
Затем ли бился Магомет в падучей,
Чтобы теперь какой-нибудь нахал
Святые Суры на удобный случай,
Для красного словца приберегал?
И стоит ли судить такого строго,
Когда не верит это существо,
В тот факт, что нету бога, кроме бога,
И только Магомет — пророк его».
Потом она приподнялась и встала.
Пустынно стало. Обезлюдел зал.
А странный гость остался
И устало
Еще коньяк и кофе заказал.
АТТРАКЦИОН
Стена вертикальная снится,
Кривые рога «Индиана», —
Толпа в отчуждение теснится,
Искатели сверхидеала.
Труба вострубила Седьмая —
И женщина в небе возникла,
По правилах»! цирка снимая
Глушители у мотоцикла.
Чтоб, выхлопом резким палима,
Удесятеренным раскатам
Внимала толпа — и от дыма
Ни зги на манеже дощатом.
Луна у нее под ногами
И дюжина звезд над короной,
И на мотоцикле кругами
По правилам аттракциона.
Стена под колеса ложится,
Бледнейшие щеки запали, —
Безумная женщина мчится
Зигзагами по вертикали.
В резиновый руль мотоцикла,
Как в мякоть, впечатались руки.
Привыкла,
привыкла,
привыкла
Не плакать от боли и муки.
Привычка,
привычка,
привычка,
М выгод немало к тому же.
А где-то ползет электричка,
Везет подмосковного мужа.
Он тот безымянный, который
Следил в отчужденье за гонкой.
В авоське припас помидоры
Жене, и к тому же законной.
Он подал на станции нищим,
Все шишки собрал по дороге —
Чтоб дуть в самовар голенищем
И соду глотать от изжоги.
Он спит. Затекает десница
Под тяжестью наспанной выи.
Стена вертикальная снится,
Рога мотоцикла кривые.
В БЛОКАДЕ
Входила маршевая рота
В огромный,
Вмерзший в темный лед,
Возникший из-за поворота
Вокзала мертвого пролет.
И дальше двигалась полями
От надолб танковых до рва.
А за вокзалом, штабелями,
В снегу лежали — не дрова...
Но даже смерть — в семнадцать —
малость,
В семнадцать лет — любое зло
Совсем легко воспринималось,
Да отложилось тяжело.
* * *
Просыпаюсь и курю...
Засыпаю и в тревожном
сне
о подлинном и ложном
С командиром говорю.
Подлинное — это дот
За березами, вон тот.
Дот как дот, одна из точек,
В нем заляжет на всю ночь
Одиночка пулеметчик,
Чтобы нам ползти помочь.
Подлинное — непреложно:
Дот огнем прикроет нас.
Ну, а ложное — приказ...
Потому что вое в нем ложно,
Потому что невозможно
По нейтральной проползти.
Впрочем... если бы... саперы...
Но приказ — приказ, и споры
Не положено вести.
Жизнью шутит он моею,
И, у жизни на краю,
Обсуждать приказ не смею,
Просыпаюсь и курю...
ИЗ РАННИХ СТИХОВ
ВОСПОМИНАНИЕ О ПЕХОТЕ
Пули, которые посланы мной,
не возвращаются из полета,
Очереди пулемета
режут под корень траву.
Я сплю,
положив под голову
Синявинские болота,
А ноги мои упираются
в Ладогу и в Неву.
Я подымаю веки,
лежу усталый и заспанный,
Слежу за костром неярким,
ловлю исчезающий зной.
И когда я
поворачиваюсь
с правого бока на спину,
Синявинские болота
хлюпают подо мной.
А когда я встаю
и делаю шаг в атаку,
Ветер боя летит
и свистит у меня в ушах,
И пятится фронт,
и катится гром к рейхстагу,
Когда я делаю
свой
второй
шаг.
И белый флаг
вывешивают
вражеские гарнизоны.
Складывают оружье,
в сторону отходя.
И на мое плечо,
на погон полевой зеленый,
Падают первые капли,
майские капли дождя.
А я все дальше иду,
минуя снарядов разрывы,
Перешагиваю моря
и форсирую реки вброд.
Я па привале в Пильзене
пену сдуваю с пива
И пепел с цигарки стряхиваю
у Бранденбургских ворот.
А весна между тем крепчает,
и хрипнут походные рации,
И по фронтовым дорогам
денно и нощно пыля,
Я требую у противника
безоговорочной
капитуляции,
Чтобы его знамена
бросить к ногам Кремля.
Но, засыпая в полночь,
я вдруг вспоминаю что-то.
Смежив тяжелые веки,
вижу, как наяву:
Я сплю,
положив под голову
Синявинские болота,
А ноги мои упираются
в Ладогу и в Неву.
ЛАДОЖСКИЙ ЛЕД
Страшный путь!
На тридцатой,
последней версте
Ничего не сулит хорошего?!
Под моими ногами
устало
хрустеть
Ледяное,
ломкое
крошево.
Страшный путь!
Ты в блокаду меня ведешь,
Только небо с тобой,
над тобой
высоко.
И нет па тебе
никаких одёж:
Гол
как
сокол.
Страшный путь!
Ты па пятой своей версте
Потерял
для меня конец,
И ветер устал
над тобой свистеть,
И устал
грохотать
свинец...
— Почему не проходит над Ладогой мост?! —
Нам подошвы
невмочь
ото льда
отрывать.
Сумасшедшие мысли
буравят
мозг:
Почему на льду не растет трава?!
Самый страшный путь
из моих путей!
На двадцатой версте
как я мог идти!
Шли навстречу из города
сотни
детей...
Сотни детей!
Замерзали в пути...
Одинокие дети
на взорванном льду —
Эту теплую смерть
распознать не могли они сами
И смотрели на падающую звезду
Непонимающими глазами.
Мне в атаках не надобно слова
«вперед»,
Под каким бы нам
ни бывать огнем —
У меня в зрачках
черный
ладожский
лед,
Ленинградские дети
лежат
на нем.
* * *
Человек живет на белом свете.
Где — не знаю. Суть совсем не в том.
Я — лежу в пристрелянном кювете,
Он — с мороза входит в теплый дом.
Человек живет на белом свете,
Он — в квартиру поднялся уже.
Я — лежу в пристрелянном кювете
На перебомблеином рубеже.
Человек живет на белом свете.
Он — в квартире зажигает свет.
Я — лежу в пристрелянном кювете,
Я — вмерзаю в ледяной кювет.
Снег не тает. Губы, щеки, веки
Он засыпал. И велит дрожать...
С думой о далеком человеке
Легче до атаки мне лежать.
А йотом подняться, разогнуться,
От кювета тело оторвать,
На ледовом поле не споткнуться
И пойти в атаку —
Воевать.
Я лежу в пристрелянном кювете.
Снег седой щетиной на скуле.
Где-то человек живет иа свете —
На моей красавице земле!
Знаю, знаю — распрямлюсь, да встану,
Да чрез гробовую полосу
К вражьему ощеренному стану
Смертную прохладу понесу.
Я лежу в пристрелянном кювете,
Я к земле сквозь тусклый лед приник...
Человек живет на белом свете —
Мой далекий отсвет! Мой двойник!
СТИХИ О МАЛЬЧИКЕ
Мальчик жил на окраине города Колпино.
Фантазер и мечтатель.
Его называли лгунишкой.
Много самых веселых и грустных историй
накоплено
Было им
за рассказом случайным,
за книжкой.
По ночам ему снилось — дорога гремит
и пылится
И за конницей гонится рыжее пламя во ржи.
А наутро выдумывал он небылицы —
Просто так.
И его обвиняли во лжи.
Презирал этот мальчик солдатиков оловянных
И другие веселые игры в войну,
Но окопом казались ему придорожные
котлованы, —
А такая фантазия ставилась тоже в вину.
Мальчик рос и мужал иа тревожной, недоброй
планете,
И когда в сорок первом году, зимой,
Был убит он,
в его офицерском планшете
Я нашел небольшое письмо домой.
Над оврагом летели холодные белые тучи
Вдоль последнего смертного рубежа.
Предо мной умирал фантазер невезучий,
На шинель
кучерявую голову положа.
А в письме были те же мальчишечьи небылицы.
Только я улыбнуться не мог...
Угол серой, исписанной плотно страницы
Кровью намок.
...За спиной на ветру полыхающий Колпино,
Горизонт в невеселом косом дыму.
Здесь он жил.
Много разных историй накоплено
Было им. Я поверил ему.
УТРОМ
Ах, шоферша,
пути перепутаны!
Где позиции?
Где санбат?
К ней пристроились на попутную
Из разведки десять ребят...
Только-только с ночной операции,
Боем вымученные все.
— Помоги, шоферша, добраться им
До дивизии,
до шоссе.
Встали в ряд.
Поперек дорога
Перерезана.
— Тормози!
Не смотри, пожалуйста, строго,
Будь любезною, подвези!
Утро майское.
Ветер свежий.
Гнется даль морская дугой,
И с балтийского побережья
Нажимает ветер тугой.
Из-за Ладоги солнце движется
Придорожные лунки сушить.
Глубоко
в это утро дышится,
Хорошо
в это утро жить.
Зацветает поле ромашками,
Их не косит никто,
не рвет.
Над обочиной
вверх тормашками
Облак пороховой плывет.
Эй, шоферша,
верней выруливай!
Над развилкой снаряд гудит.
На дорогу, не сбитый пулями,
Наблюдатель чужой глядит...
Затянули песню сначала,
Да едва пошла
подпевать —
На второй версте укачала
Неустойчивая кровать.
Эй, шоферша,
правь осторожней!
Путь ухабистый впереди.
На волнах колеи дорожной
Пассажиров
не разбуди!
Спит старшой,
не сняв автомата.
Стать расписывать не берусь!
Ты смотри, какие ребята!
Это, я понимаю, груз!
А до следующего боя
Сутки целые жить и жить.
А над кузовом голубое
Небо к передовой бежит.
В даль кромешную
пороховую,
Через степи, луга, леса,
На гремящую передовую
Брызжут чистые небеса...
Ничего мне не надо лучшего,
Кроме этого — чем живу,
Кроме солнца
в зените,
колючего,
Густо впутанного в траву.
Кроме этого тряского кузова,
Русской дали
в рассветном дыму,
Кроме песни разведчика русого
Про красавицу в терему.
КОММУНИСТЫ, ВПЕРЕД!
Есть в военном приказе
Такие слова,
На которые только в тяжелом бою
(Да и то не всегда)
Получает права
Командир, подымающий роту свою.
Я давно понимаю
Военный устав
И под выкладкой полной
Не горблюсь давно.
Но, страницы устава до дыр залистав,
Этих слов
До сих пор
Не нашел
Все равно.
Год двадцатый,
Коней одичавших галоп.
Перекоп.
Эшелоны. Тифозная мгла.
Интервентская пуля, летящая в лоб, —
И не встать под огнем у шестого кола.
Полк
Шинели
На проволоку побросал, —
Но стучит над шинельным сукном пулемет,
И тогда
еле слышно
сказал
комиссар:
— Коммунисты, вперед! Коммунисты,
вперед
Есть в военном приказе
Такие слова!
Но они не подвластны
Уставам войны.
Есть —
Превыше устава —
Такие права,
Что не всем
Получившим оружье
Даны...
Сосчитали штандарты побитых держав,
Тыщи тысяч плотни
Возвели на реках.
Целину подымали,
Штурвалы зажав
В заскорузлых,
Тяжелых
Рабочих
Руках.
И пробило однажды плотину одну
На Свирьстрое, на Волхове иль на Днепре.
И пошли головные бригады
Ко дну,
Под волну,
На морозной заре,
В декабре.
И когда не хватало
«... Предложенных мер...»,
И шкафы с чертежами грузили на нлот,
Еле слышно
сказал
молодой инженер:
— Коммунисты, вперед! Коммунисты,
вперед!
Летним утром
Граната упала в траву,
Возле Львова
Застава во рву залегла.
«Мессершмитты» плеснули бензин
в синеву, —
И не встать под огнем у шестого кола.
Жгли мосты
На дорогах от Бреста к Москве.
Шли солдаты,
От беженцев взгляд отводя.
И на башнях
Закопанных в пашни «КВ»
Высыхали тяжелые капли дождя.
И без кожуха
Из сталинградских квартир
Бил «максим»,
И Родимцев ощупывал лед.
И тогда
еле слышно
сказал
командир:
Коммунисты, вперед! Коммунисты,
вперед!
Мы сорвали штандарты
Фашистских держав,
Целовали гвардейских дивизий шелка
И, древко
Узловатыми пальцами сжав,
Возле Ленина
В Мае
Прошли у древка...
Под февральскими тучами
Ветер и снег,
Но железом нестынущим пахнет земля.
Приближается день.
Продолжается век.
Индевеют штыки в караулах Кремля...
Повсеместно,
Где скрещены трассы свинца,
Где труда бескорыстного — невпроворот,
Сквозь века,
на века,
навсегда,
до конца:
Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
...И мне сегодня хочется опять
Припомнить все — все с самого начала...
Пред сумерками — в 20.35
Наш эшелон на рельсах закачало.
Комбат сказал: — Друзья, я не пророк.
Друзья! Вдохните этот ветерок.
Друзья! Он пахнет, кажется, бедой. —
Комбат был очень, очень молодой,
Он не был с нами холоден и строг.
Мы согревались этой ерундой,
Хотя она была едва ли впрок
И не нужнее сухости седой.
Никто из нас не знал, что это — старт.
Все думали, что старт был принят раньше,
Когда мы шумно спорили у парт,
А прусские десанты на Ла-Манше
Под бомбами, зверея, шли на дно.
Гул продирался, гул врывался в классы,
И хитрые хозяева запасы
Уже хранили в закромах. Кино
Тянуло ленты в заревах кровавых.
За городами на помятых травах
Маршировали потные взвода!
Но нет... Наш старт был принят не тогда,
А в этот вечер...
Эшелон качало.
Комбат тревожно нюхал ветерок.
Смеркалось. И в теплушках полк продрог.
Я ощутил пришествие начала...
СТИХИ О ТОМ, КАК СЫН СТАЛ СОЛДАТОМ
Е. С. Межировой
Собирала мне мама
Мешок вещевой.
В нем запасов — ну прямо
На две жизни с лихвой.
Возле военкомата,
У Москвы на виду,
Подравнялась команда
В сорок первом году.
Паровозы кричали
В голос на Окружной.
Мама в печали
Прощалась со мной.
Застучали колеса,
Засвистели свистки.
Возле верхнего плеса
Вышли маршевики.
Дом мой — во поле яма,
Небо над головой...
Собирала мне мама
Мешок вещевой.
Я варил концентраты,
Руки грел у огня,
Ветераны-солдаты
Поучали меня.
Медсанбат в Шлиссельбурге
Стыл на невском ветру.
Хлопотали хирурги,
Говорили — умру.
Я глядел из тумана
В окна на Моховой —
Собирает мне мама
Мешок вещевой,
Хлеб на кухне я режу,
Окликаю сестру...
В медсанбате я брежу,
Говорят, что умру.
Новой песни начало,
Бессловесной еще,
В тишине прозвучало,
Обожгло горячо.
Песня, мать дорогая,
Я тебя прошепчу,
В трудный час помогая
Полковому врачу.
Ты врачуй мою рану,
Над палатой звучи.
Запою я — и встану.
Отойдите, врачи!
Подымаюсь упрямо.
Годен я к строевой!
Собирает мне мама
Мешок вещевой.
Снова передовая
В перекрестном огне
Мне твердит, завывая:
«Страшен путь по войне».
Но из танковых башен
Полка моего
Он не так уж и страшен,
Как малюют его.
СНОВА ЛУГ ЗАРАСТАЕТ ТРАВОЙ
Снова луг зарастает травой,
И цветы до того хороши,
Хоть заройся в них с головой,
Все забудь,
лежи
и дыши,
Чтоб скрипела грудная клетка,
Подымаясь крутой волной...
Жаль, что лирика
слишком редко
Разрешается нам войной.
Не прошло и одной недели,
Не минуло седьмого дня,
Как вот эта земля гудела,
В дотах вздрагивала броня.
Из деревни,
что в сотне метров
Здесь
за лугом
когда-то
была,
Жгло траншеи настильным ветром
Раскалившимся
добела.
Плащ-палатки, коробясь, тлели,
Зачерствели ремни, как сухарь,
На горячем
обмякшем теле
Пот, не выступив,
просыхал.
Здесь работали огнеметы,
Выжигая
врагу
пути.
Лишь советская
наша
пехота
Может это перенести.
Мы в траншеи вросли по плечи,
Наступила великая сушь,
От огня защищаться нечем,
Потому что огонь
вездесущ.
Н опять
луг
зарос
травой,
И цветы до того хороши,
Хоть заройся в них с головой,
Все забудь,
лежи
и дыши
Воздухом душной июльской зрелости,
Мягкой землей,
до основ нагретой,
Даже здесь
не утратившей прелести
Всепобеждающего расцвета...
На заре от росы свежо...
Наблюдателя дрожь берет...
Мы нейтральную
бережем,
Если нет
приказа —
вперед.
НА ЗИМНЕМ ПОЛУСТАНКЕ
С самой
вот этой
первой
строки
Я даже опомниться не успеваю,
Как вокзальные сквозняки
Меня на каменный пол сбивают.
А на полу
ледяной нарост,
Примерзших окурков
тьма,
И в каждую щелку
сквозит
мороз,
Сорокаградусная зима...
Сорок градусов —
не пустяк.
В сорок
первом
году,
Когда подошвы,
ломаясь,
хрустят
На станционном льду,
Когда под кашель
хоть до хрипа
дыши,
Не выдуешь ни на грош,
И слышно, как о сукно шуршит,
Вздыбив мурашки,
дрожь...
Сорок
градусов
ниже нуля,
И жить на земле невозможно,
если
Забыть,
что на западе есть
земля,
Где ртуть
замерзает в Цельсии...
А здесь
вокзал
от мороза звенит,
Звенят
индевелые
батареи,
Солнце ползет в бесполезный зенит
И
никого
не греет.
Плащ-палатки
в четыре наката,
Коптилка
попыхивает
малокровно.
Три дня
эшелон
ожидают
ребята
И дышат во сне
неровно.
И пар
встает под прямым углом,
Паровозного пара вроде,
И греют ребята
друг друга теплом
Тела,
в котором тепло
на исходе.
А пар,
достигнувши потолка,
Крупными
каплями
застывает,
И потолок
становится
как
Булыжная
мостовая.
И больше лежать нам
уже нельзя,
И нету сил
никаких,
И кажется,
будто бы здесь
сквозят
Все существующие сквозняки.
Пляшет очередь
за кипятком,
Длинная,
как товарный состав.
Уголь,
шурованный ржавым штыком,
Дотлел,
и чугунная печь пуста.
ВЕС ВЕРСТ
1
В сорок первом,
как всё, шальной,
Состав кружился по Окружной.
Я сидел в теплушке не теплой,
На стреляющем сквозняке,
Слушал, как дребезжали стекла
От разрывов невдалеке.
Поезд вырваться был не в силах
Ни на запад,
ни на восток,
И ело, закружив, носило
По хребтам окружных мостов.
Было холодно, неуютно,
Ни прилечь,
ни присесть,
ни встать.
В этой нота
кромешно-мутной
Первый столб
забила верста...
2
Пулеметных огней
перехлест,
Мина мине
наперерез,
Столбовое равненье верст,
И у каждой особый вес.
У меня сапоги сопрели
В сизой непогоди
похода.
Я за этим рулем старею
Полтора вековечных года.
Я хожу по ночам в разведки,
Оставляю открытым люк, —
Черт выносит мою танкетку,
Без нее мне давно б каюк.
Я грызу свой мундштук прогорклый,
Режу выжженную траву.
Если нет у меня махорки,
Существую,
а не живу...
Маскировочных сеток
рябь,
Залихватских обочин
круть,
Подколесная
жижа-хлябь —
Фронтового кочевья
путь.
На ладонях густой мазут,
Под мазутом
сухая кровь,
Пляшет черный шофер на газу,
Объезжая стотысячный ров.
Колею донимает
зуд,
Радиатор хрипит:
«Воды!»
Щебень
гусеницы
грызут,
И болото сосет следы,
И колеса вразброд скользят.
Я умею спать у руля,
Потому что
упасть
нельзя,
Потому что вокруг
земля,
Добела накалилась ось,
Каждой пядью земля взасос
3
Тянет вкривь
и бросает вкось
Разболтавшееся колесо.
Кочевряжится путь мой хлюпкий,
На сырой гимнастерке соль,
Перекушен мундштук у трубки,
На стартере натерта мозоль.
Но опять,
опять
и опять —
В нескончаемый
липкий
брод,
За увесистой
пядью
пядь,
За стотысячный
поворот,
Вырывая
с мясом
подсосы,
Задыхаясь
в бензопровод,
Нажимает на все колеса
Грязью
взмыленный
броневзвод...
Версты
весят
тысячи тонн
И давят на обода
колес,
Поэтому дело
совсем не в том,
Сколько
пройдено
верст.
Иные версты
не весят грамма;
Они — снежинками на плечах,
Они скользят спокойно и прямо, —
Надо версты
от верст
отличать.
Летчики думают, что болтанка
Бывает только в воздушных баталиях,
Но танкистов болтает в танках,
И еще как болтает их!
А о пехоте
нету и речи,
Пехоте еще не слаще, —
Пехота версты взвалила на плечи
И по дорогам
тащит.
Идет пехота
путем бессонным,
В будущем веке —
былинным,
И тащит пехота
тысячетонные
От Тулы
и до Берлина.
Тащит и тащит на тощих плечах,
Каждую пядь,
просолив,
А впереди
плывут и урчат
Корабли,
корабли,
корабли.
А впереди
мы
за рулями,
При температуре плавленья,
Не объезжая
бугры и ямы,
Ведем за собой наступленье.
Проволоку
в шестнадцать колов
У нейтральной
в клочья корежим.
Через надолбы
напролом —
По дорогам и бездорожью...
Взвод
каленым металлом клеймен
И не нуждается в славословье,
Потому что на шелке гвардейских знамен
Капля
его
незастывшей
крови.
4
Я старожил своего батальона,
Черной,
дорожной воды
пловец,
Знающий каждую пядь
поименно —
На ощупь,
на цвет,
на вес.
Грыз под Урицком
последний и черствый
Сухарь,
которому пет цены,
Видел
блокадные
куцые
версты
На невоспетых
путях
войны.
Вершок отступления —
версты
длинней,
Пядь — длинней десяти.
Только на очень большой войне
Бывают такие пути.
Я проверил
твердость земли
Собственными
подошвами, —
Мои пути,
спотыкаясь, шли,
Они мне дались
не дешево.
Навзничь машины
гремели с обочин,
За голенища
ползли болота,
Каждый шаг
был насквозь промочен
Невысыхающим
терпким потом,
Потом,
который твердым кристаллом
На гимнастерках у нас блестит.
Если рота
шаги
заплетает
устало
И привала
не ждет в пути —
Слава
солдатскому
горькому
поту,
Самому славному из потов,
Сопровождающему пехоту
По бездорожью всех фронтов!
Цветет над дорогою свистопляска —
По перепонкам сухой горох.
Я оглох
от усталого лязга,
Я от острого свиста
оглох.
Жесткие листья
секут щеку, —
Я закрываю люк
И в смотровую скупую щелку
Вижу
знакомую колею.
За утренним солнцем
в упорный след
Идет она
по большим дорогам,
По рубежам
наших бегств и побед —
В гусеницу
и в ногу.
А кругом
без конца и без края,
В полнокровной грозе
половодьем бурля,
Вся набухшая,
теплая
и сырая,
Мне доверенная
Земля.
НА РУБЕЖАХ
Л. Озерову
С рельс
руками
отдирали лед мы.
Пар плясал
над паровозною трубой.
Песни проволоченной Олёкмы
Пел солдат,
сибирский зверобой.
Зацветала дальняя Олёкма,
Золото червонное лилось,
Вологодский ветер
рвался
в окна,
Заглушая перестук колес.
А за горизонтом
Ладога лежала,
А за Ладогой огромный город жил —
На морозе душный от пожара,
Втиснутый в кривые рубежи.
Бомбили путь,
да так, что шпалы в небо,
Взрывные волны
шли тяжелым ветром,
Последней
неблокадной
пайкой хлеба
Нас в Волховстрое
наградили щедро...
Да, Маяковский,
в толстых словарях
таилось слово страшное: «Блокада».
Я жду атаку в пулковском кювете.
Направо —
полыханье Ленинграда,
Над полыханьем высохший балтийский ветер.
Все словари в Москве.
Пути отсечены,
И с июля
не видал
Москву.
Мне больше о войне не снятся сны.
Нет словарей.
Блокада.
Наяву.
Мы зимуем в синявинских топких чащобах,
Иглы веток периной на углях стеля,
Нас насквозь пропитала
священная злоба,
Па которой стоит
и стояла земля.
Здесь болото
по пояс.
Болото но плечи.
И такая тоска
шалашей продувных,
Что под пулями
год
перемаяться легче,
Чем какой-нибудь
месяц
в них...
Дневального
холод
прижмет к костру,
Сном окружив,
свалит,
И запылает шалаш на ветру —
И поминай, как звали!
Горят
синявинскйе шалаши,
Патроны трещат в огне,
А мы их едва успеваем тушить,
И пеплом
покрылся снег.
Промерзшие руки
в огне почернели,
Растрескались.
В трещинах
капли
крови,
Мы над кострами прожгли шинели
И опалили брови.
Ветры
расправу над нами вершат,
За голенищами иглы да сучья.
В чадящих,
простуженных шалашах
Покрылось тело
корой
дремучей.
Раньше мы снегом
скоблили
кожу,
Но ведь нельзя месяцами не спать!
Нас пеплом начало засыпать,
И мы на сожженные
трупы
похожи...
Суровей земли
я нигде не видал,
Такую и выдумать
нелегко.
Желтым пятном
проступает
вода,
Если снег проколоть штыком,
И тонут танки
по самые башни,
И кажется, нет здесь совсем земли.
Задремлешь.
Проснешься.
И станет страшно.
Трясина
вблизи,
вдали,
На ней ни сеять,
пи жать,
ни жить,
Она не кормит,
не греет.
Зверь,
не выдержав,
прочь бежит,
А человек
звереет.
Мы в ней утонули,
в нее вросли,
И враг из месяца в месяц,
Пытаясь вырвать нас из земли,
Болото бомбами месит.
Осколки врезаются, как шипы,
Рвут
снеговой
покров.
Металл, охлаждаясь в воде, шипит,
Как печь
от сырых
дров.
Осколки расписывают кору,
Осколками
воют
клочья
коры,
А мы под бомбы
ползем
к костру
И телом готовы его закрыть,
Чтобы взрывная волна не смела
Углей золотую валюту,
Чтобы периной нас грела зола
В синявинском ветре лютом...
Петр Великий
придет на позиции,
Скажет;
«Потомки
моих героев!
Хватит
с кострами возиться!
Давайте
город
построим!
Два века назад
в такой же трясине
Первые камни
на дно легли.
Сыны России
во славу России
Построили
лучший
город
земли.
Здесь,
под Синявином,
на трясине,
Славы русской
не посрамим —
Построим город.
Самый красивый.
Немыслимый город.
Амипь».
И я отвечу ему сурово:
«Полководец,
повремени!
Мы города
будем строить снова —
Придут еще и такие дни.
Нам надобно
здесь
продержаться в болоте,
Только б хватило
снарядов и мин!
Мы, полководец,
на ратной
работе,
Мы на войне.
Аминь».
Вздрогнут усы.
Побелеют губы.
Колючие брови
сползутся
круче,
И пойдет, ботфортами грубыми
Ломая
серые
ржавые
сучья.
Цепь траншей
оглядит деловито,
Перешагнет через ветхий блиндаж
И ничего не упустит из виду.
«Почему не выкачана вода?»
И, рывком
повернувшись к роте,
Скажет:
«Знаю — болото,
но
Город
все-таки
здесь
постройте,
Страшиться земли
грешно!..»
Я сплю
и не чувствую,
как за ворот
Забивается желтый снег.
Июльский,
жаркий,
огромный город
Вырастает
в счастливом сне.
Четыре пальца раздирают рот
На ноте «си» над тучей ветровой.
Идут машины кувырком вперед,
Идут гуртом по черной мостовой.
Гудящий дождь, цыганский и грибной,
Дождь голубятников и голубей,
Свистящий, булькающий, проливной,
Дождь, разговаривающих! со мной
По водосточной сломанной трубе.
Щекочет ноздри свист на ноте «си»
И турмана на ниточку берет,
Над черной крышей турман колесит,
Сквозь дождь упрямо пробираясь вброд.
Гуляют закадычные друзья,
Гремит по крышам листовая дрожь,
Прямой проспект навылет просквози,
Гортанным свистом покрывают дождь,
Четыре пальца раздирают рот.
И я готов побиться об заклад,
Что каждый от рождения крылат, —
Летит по крышам кувырком вперед,
Четыре пальца раздирают рот...
Над городом тяжелый дождь повис,
Но голубятник переводит свист,
И свист летит сквозь тучу в синеву
И, обессилев, падает на сквер —
На мокрую, прохладную траву.
Но с Ладоги торопятся ветра,
И тучи поворачивают вспять.
И медленно
Июльская жара
На город опускается опять.
А голубь набирает высоту, —
Он облетел все в мире города,
Но эту неземную красоту
По встретил на планете никогда.
И сизый турман над рекой Невой
От счастья захлебнулся синевой...
Надо верить
хорошим снам,
Потому что все они
в руку.
Верить, как сны наши
верят нам.
Верить!
Рассказывать их друг другу!
И если приснится
тебе
вот это,
О чем я только что рассказал,
Не обязательно
быть
поэтом,
Просто закрой на минуту глаза,
И ты почувствуешь
будущий
город —
Дворцы,
проспекты,
балтийский ветер.
Забудешь холод,
осилишь голод,
Вынесешь
все
на свете...
А пепел с цигарок пылит на ветру,
И ракеты туман сверлят.
Выживу я
или умру?
Что ж ты молчишь,
земля?
Ночь блокадная,
расскажи!
Очень
Хочется
Жить!
Валяться на острой, горячей траве,
Изрезав
вспотевшую
кожу,
Смотреть,
как в июльской сплошной синеве
Сгустком крови
маячит
коршун;
Зарывшись в сене душистом, спать,
О дальних дорогах мечтать,
Землю ладонями пересыпать,
Стихи друзей по ночам читать...
Ночь блокадная,
Расскажи!
Очень
Хочется
Жить!
Нет ответа.
Молчит кукушка.
Под миной
всхлипывает вода.
Где-то рядом ударила пушка.
Я
говорю ей:
— Гадай. —
И, не дождавшись
последнего
выстрела,
Вдруг засыпаю
спокойно,
как в детстве.
Ночь снова свой город немыслимый
выстроила,
Снова сон —
никуда
не деться!!
И с нашей волей
не совладать
Силе ветра,
огня,
снаряда...
Стоит великий русский солдат
На боевых рубежах Ленинграда.
И с нашей волей не совладать.
Бессилен
ужас трясины...
Стоит великий русский солдат
На рубежах России.
Нет на свете таких морей,
Дна под ними такого нет,
Где б от наших литых якорей
Не остался глубокий след.
Нет на свете таких костров,
На которых бы нас сожгли,
Нет на свете таких ветров,
От которых мы вспять ушли.
Наша юность крепит рубежи
Нашей родины,
и
потому
После
смерти
мы будем
жить,
Будем жить!
Вопреки всему!
НЕВСКИЙ
И все-таки —
Вновь убеждаюсь в этом —
Даже тогда,
в грязи и в золе,
Невский
был самым красивым проспектом
Из всех проспектов
На всей земле.
Даже тогда,
В блокадную зиму,
Расстрелянный поквартально,
Оп был красив
невообразимо —
Светло
и многострадально.
Балтийской закваски
гудели метели,
В серых пробоинах
затихая,
Снаряды без промаха
в цель летели,
Кварталы пылали,
не потухая.
Почти оглохший в сплошных раскатах,
От едкого смрада
почти слепой,
Он был красив
Красотою солдата,
Который держит
неравный бой.
Без стона,
без крика,
снося увечье,
Которое каждый снаряд несет,
Он был красив
Красотой человечьей,
Самой высокой
из всех красот...
В будущих битвах
всегда и всюду,
Привычной рукой
отводя беду,
Я вспоминать
непременно буду
Невский
В сорок втором году.
ПЕСНЯ
Ветер крученый,
верченый,
гнутый.
То ребром,
то стеной,
то кольцом.
Ночь...
Бессилье...
Кто выжил, тот вспомнит
про эти минуты.
Люди тихо ложатся
на лед
лицом.
Снежные над Ладогрй летели паруса,
Батальон поземицу плечами разрывал.
Я упад — умереть.
Вдруг вдали голоса:
«Эй, баргузин, пошевеливай вал...»
А вокруг такая была темнота!
И тепло замерзать!
И к чему проволочка?
И правильно все!
И конец!
Но там
Пели люди:
«...плы-ыть недалечко».
И был в голосах бесконечный задор,
Сила несметная в них была.
И я ладонью
глаза протер
И увидал, что ладонь бела.
А ветер все дул,
мне глаза прикрывал
И вдруг ко льду припадал,
распятый.
«Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Слышатся грома раскаты...»
Я
не дослушать тех слов
не мог.
Я бросился к песне.
Бежал,
пока
Мой подшлемник потом намок.
«Славное море — священный Байкал!»
Пели у берега голоса.
А я за песней шагал
и шагал,
И слезы грели мои глаза.
«Славное море — священный Байкал...:
А песня гремела уже на земле.
Я шел спокойно
вперед
по льду.
Это было очень давно,
в феврале...
Это было в сорок втором году...
Я шел по свистящему февралю,
Сильный,
прямой,
согретый,
Впервые осмысливший,
как люблю
Родину песни этой.
НОЧЬ I
То ли капает вода,
То ли тикают часы?
У нейтральной полосы
Есть землянка.
Провода
К ней от штаба батальона
Протянулись через луг
По траве, траве зеленой.
В той землянке политрук
Ночью думает о бое.
То ли капает вода,
То ли тикают часы, —
Слушает.
Вокруг слепое
Полуночье. Тишь. Звезда
У нейтральной полосы.
Или, может быть, ракета,
Или пуля-светлячок,
Или, или, или это
Полный месяц-пятачок?
Провода бегут к землянке
Над землей и по земле,
Через рощи и полянки
В штарм,
А в штарме на столе
Черный телефон-вертушка —
Чуткое стальное ушко.
Полуночье там слепое.
Курит комиссар цигарку.
Думу думает о бое.
Слушает. Темно и жарко.
То ли капает вода,
То ли тикают часы?
Убегают провода
От нейтральной полосы.
Всё бегут от штаба к штабу
Меж каменьев, меж травы,
От овражка до ухаба,
От землянки до Москвы.
Полуночье там слепое.
Маршал думает о бое.
Слушает. Идут года...
То ли капает вода,
То ли тикают часы?..
От нейтральной полосы
Мчатся в вечность провода.
РУКА НАЗАРОВА
Я видел,
Как на снайперские гнезда
У Пулковских высот
По вечерам
Падучие обрушивались звезды,
Пророчествуя гибель снайперам.
Они цвели
Над раненым комбатом,
В минированных плавали ручьях, —
Жил батальон
Под этим звездопадом
В блокадных окровавленных ночах.
Здесь,
Под наплывом звезд и черных зарев,
С винтовкой без ремня и без штыка,
Стоял в бойнице
Рядовой Назаров
И видел землю
Сквозь глазок щитка.
Она лежала, черствая, под тучей,
От пулевых щелчков чуть-чуть пыля,
И не желала
Сделаться падучей
Звезда неукротимая —
Земля.
Назаров грыз сухарь обледенелый
Плечом тяжелым землю подперев,
И брал врага
На мертвые прицелы,
И синий иней
Сыпался с дерев.
И, приминая телом
Снег колючий,
В ночи,
Под кромкой млечного моста,
Упал,
Чтобы не сделалась падучей
Жестокая и светлая звезда.
Упал солдат,
В приклад впечатав руку.
Сто тысяч звезд
В зрачках застывших глаз.
По вечному сверкающему кругу
Звезда неукротимая неслась.
Прошли года свершений и отмщенья,
И мчится,
Всем задержкам вопреки,
Планета,
Получившая вращенье
От той бессмертной снайперской руки.
ТАК УХОДИЛИ В БОЙ
1
Снова вокзалы.
Обратно в строй...
Смуглые руки скрестив на груди,
Ходит сестра.
Вслед за сестрой
И ты
По вокзалу
Иди.
Дым махорочный,
Плотен, тяжел,
В ворсинках сукна, оседая, ложится.
Старшина на перрон прошел —
Воздухом освежиться.
В Саратове всякого люда тьма,
Тьма непроглядная,
Тьмущая.
Стоят настороженные дома —
Ставни заставлены,
Шторы опущены.
Темные вести ползут на восток,
Лезут в расщелины ставен:
— Сегодня
Без боя
Оставлен Ростов.
Сегодня
Ростов
Оставлен.
Снова на фронт,
Лазарет позади.
По-над перроном дымок кудлатый.
Эй, товарищ,
В вагон подсади
Недолечившегося солдата!
Ноет припухшая ступня
И не дает идти,
Потому что засел у меня
Рваный металл в кости.
Детишки бегают по эшелонам:
Корочку хлебушка дай, солдатик!.. —
Сидим и смотрим,
И тяжело нам,
И как последнюю не отдать им!
2
Перед отправкой
Нету парада.
Мы просто к вагонам идем толпой.
По списку вручаются концентраты
И медальоны,
Видавшие бой.
В теплушках под печками пол прожжен,
Особый уют
Завела война.
На стенах вырезаны ножом
Какие-то имена.
И сразу
Ножиком перочинным,
Которым
гвозди
впору
строгать,
От нар откалываются лучины,
Чтобы легче печь
разжигать.
Мы ждем
Отправляющего свистка.
— На фронт бы скорее! —
Везде разговоры.
Сидят сформированные войска,
Драят натруженные затворы.
И над Саратовом в небе густом
«Ил» завивает воронки хвостом.
А темные вести ползут на восток,
И в ротах читают суровый приказ.
(Сегодня
Без боя
Оставлен
Ростов.
Оставлен
Новочеркасск.)
В приказе сказано:
«Жизнь
Или смерть!
Шагу
Назад
Отступать
Не сметь!..»
Свисток,
Разминаясь,
Встает над трубой.
Пар вырывается прытко и косо.
Секунду
на рельсах
буксуют
колеса...
Так...
Уходили...
В бой...
Нам
До конца
Не забыть этих дней,
Когда,
Незажившие раны терпя,
Мы стали мужественней,
сильней,
Лучше
самих
себя.
ДРУЗЬЯМ
На утрату нижется утрата,
Но такого позабыть нельзя.
Вечно живы в памяти ребята,
Фронтовые, кровные друзья.
К одному один. И каждый — лучше,
Каждый заправила и вожак.
Прикажи — поразгоняют тучи,
Прикажи — грозою освежат.
Я люблю их больше всех на свете,
Потому что вместе нас прожег
Самый горький и суровый ветер —
Ветер отступающих дорог.
И еще за то, что наши роты
В петлях окружений, взаперти
Верили в крутые повороты,
Верили в обратные пути.
КОСТЕР
Я подпалю тебя в глуши лесной
Березовыми ломкими суками.
Костер, костер! Заговори со мной
Несчетными своими языками!
В глуши лесной не разглядеть зари,
Здесь свет от твоего лишь полыханья.
Гори, гори, костер, и говори,
И озари мои воспоминанья.
Я все увижу в пламени твоем,
Услышу все в потрескиванье дробном.
Мы здесь без соглядатаев, вдвоем.
Будь светлым, откровенным и подробным.
А если хочешь увидать зарю,
Зарю из своего лесного склепа,
Тебе я это счастье подарю,
И сквозь листву горящий сук до неба
Над бесконечным лесом подыму.
Смотри в простор! Он в голубом дыму.
Он, как и прежде, в нимбе золотом —
Неповторимом. Солнечном. Святом.
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
П. Я. Межирову
Бродить по вечерам,
От света жмуриться.
Искать повсюду мирные приметы.
Смотреть, как на распахнутые улицы,
Сгорая в воздухе,
Пикируют ракеты.
Курить за папиросой папиросу,
От фронтовой махорки отвыкать,
Смотреть, как мирно, медленно и косо
Прожектор подпирает облака.
Дышать сплошным спокойствием погоды,
Смотреть в чужие окна без стыда
И вспоминать недавние походы —
Дороги,
страны,
реки,
города.
Четыре года лягут па ладони
Простором гор,
лесов,
морей,
долин —
Можайск и Франкфурт,
Одер и Задонье,
Одесса, Подмосковье и Берлин.
Проверь,
Пересмотри все поминутно,
По километрам
Вспомни рубежи,
Жестокий ветер,
Встречный и попутный,
Воронки,
рвы,
траншеи,
блиндажи.
Как шли чужие танки,
Завывая,
Бензином отработанным разя,
И как, пилотки с головы срывая,
Под гусеницы падали друзья,
Зажав гранаты мокрыми руками...
На Театральной площади светло.
Гремит салют,
Дрожит кремлевский камень.
В открытых окнах дребезжит стекло.
Бьет тысяча орудий.
Вспышка.
Грохот.
Счастливых слез нельзя перебороть.
И в этот миг
Великая эпоха —
Эпоха Мира —
Обретает
Плоть.
ЭТА ВЕСНА
Я иду, шатаясь и хромая, —
Рану растревожила весна, —
И висит над непочатым маем
Сплошь на тыщи верст голубизна.
Кто ее туманной гладью вышил,
Туго и покато натянул?
Сонный голубь на прогулку вышел,
Хвост в прозрачный ветер окунул
И пошел неслышно вдоль Кремля,
Крыльями лениво шевеля.
Я иду, шатаясь и хромая,
Улыбаюсь, плачу и пою.
Ничего кругом не понимаю,
Никого вокруг не узнаю.
Все прошло.
Над парашютной вышкой
Снова пляшет мирный парашют,
И на Крымской площади мальчишки
Даром папиросы раздают.
Я иду в расстегнутой шинели,
Сняв пилотку с мокрой головы,
По прямой накатанной панели —
В самом центре Мира и Москвы.
Если скажут мне: «Умри на месте,
Чтобы вечно цвесть такому дню», —
Снова трижды пропаду без вести,
Этот Май всей грудью заслоню.
ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Густая
Всклокоченная гроза
С грохотом вваливается в город.
В окна,
в двери,
в уши,
в глаза.
Пешеходу, застигнутому врасплох,
Холодные пальцы кладет за ворот,
И город от первого грома оглох,
И растерявшийся офицер —
С фронта четыре недели назад —
Возле витрины смеется:
«Цел!» —
Словно не знает, что это гроза.
Ему в лицо ударяет вода,
Осеняюще холодна, —
И только тогда,
Только тогда
Он чувствует вдруг, что прошла война.
И вспоминает, как босиком,
Кубарем по тротуарной бровке,
Через лужи бросок за броском,
Мчался в грозу по этой Петровке.
И, позабыв про чины и годы,
Легкий и молодой,
Мчится, разбрызгивая воду,
Захлебываясь водой.
Он слушает —
Ливень по трубам сопит,
Струи выхлестывают мостовую.
Он пьет, как стоградусный дикий спирт,
Мирную,
пьяную,
дождевую
Влагу...
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Промеж леска вихляют
Вихры одноколейки.
Здесь ты,
Моя красавица,
Сегодня поезд ждешь.
И аккуратный, ровный,
Как будто бы
Из лейки,
На ту одноколейку
Накрапывает дождь.
А пахнет та дороженька
Осинами, березами
И соснами,
Смолистыми
С верхушек до корней,
И черными,
Лохматыми,
Смешными паровозами,
Которые раз в сутки
Проносятся по ней.
А ты, моя красавица,
Стоишь на том разъезде,
А над разъездом тучи
Да ночь темным-темна,
Над тучами
Разбросаны
Мудреные созвездья,
Под тучами
Дождинки,
Да ты,
Да тишина.
А у того разъезда
Есть махонький базарик, —
Оглобли смотрят в небо,
Сутулятся возы...
Ах, если был бы я бы
Человек-прозаик,
Не петь мне этой песни
И не глотать слезы.
Ну как мне быть, красавица,
Скажи, моя хорошая, —
Ведь я не разучился
Все это замечать.
Бежит одноколейка,
Бежит, леском поросшая.
Грустить или смеяться?
Петь или замолчать?
Так пусть на том разъезде
Незваный я и лишний...
Ложится сонный дождик
На мягкую траву.
Бежит одноколейка,
Растут грибы неслышно,
И в этой благодати
Я на земле живу.
ПЛЫЛ ПЛАВНЫЙ ДОЖДЬ
Плыл плавный дождь. Совсем такой, как тот,
Когда в траве, размокшей и примятой,
Я полз впервые по полю на дот,
Чтоб в амбразуру запустить гранатой,
И был одной лишь мыслью поглощен —
Чтоб туча вдруг с пути не своротила,
Чтобы луна меня не осветила...
Об этом думал. Больше ни о чем.
Плыл плавный дождь. Совсем такой, как тот,
Который поле темнотой наполнил,
Который спас ползущего па дот.
Плыл плавный дождь. И я его припомнил.
Плыл плавный дождь. Висела тишина.
Тяжелая, угрюмая погода.
Плыла над полем черная весна
Блокадного, истерзанного года...
И вот сегодня снова дождь плывет,
До каждой капли памятный солдату,
И я, гуляя, вдруг набрел на дот,
Который сам же подрывал когда-то.
Окраина Урицка. Тишь. Покой.
Все так же стебли трав дождем примяты.
Я трогаю дрожащею рукой
Осколок ржавый от моей гранаты.
И вспоминаю о дожде густом,
О первом доте, пламенем объятом,
О ремесле суровом и простом...
Плыл плавный дождь.
В июне.
В сорок пятом...
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Погрузились леса и поля
В снегопад, как в огонь ледяной.
Он в безветрии, словно дремля,
Недвижимо висит надо мной.
Санный путь возле сонных берез
Разогнался, взбежал на холмы,
И в озера вправляет мороз
Индевелые стекла зимы.
Возле Ладоги,
на холоду,
Я в санях задремать не могу.
Снова Ладога стынет во льду,
Берег Ладоги тонет в снегу.
И сполохи слепят мне глаза
Чистым светом родной стороны,
И о чем-то поют подреза
В две холодных железных струны.
Возле Ладоги,
около льда,
Вместе с ними и я запою
Про года, что забыть никогда
Не смогу ни в трудах, ни в бою.
Громче, песня моя, зазвучи!
Ты разбужена нынче не зря, —
Снова Ладогу вижу в ночи,
В ледяном забытьи января.
Снова Ладогу — стылую гать —
Вижу я
не во сне,
наяву.
Роте маршевой надо шагать
В город Ленина,
в бой,
на Неву.
Роте маршевой надо идти
На Неву — занимать рубежи:
Город Ленина там взаперти...
Снегопад!
Посвети мне в пути,
Память стужей своей освежи!
1
На Ладоге,
как воля,
крепнет лед.
Стучат орудья.
Первая пристрелка.
И мина, как разбитая тарелка,
Со звоном рассыпается вразлет.
У генерала
на штабном столе
Вся Ладога —
Весь лед ее суровый,
Весь горизонт, изогнутый подковой,
И снег багровый
в пепле и в золе.
Гремит над барабанной перепонкой
В бессонницу нацеленный звонок,
И голос в трубке говорит,
что тонкий
Лед Ладоги
уходит из-под ног.
У генерала
на штабном столе
Расхлестанные пулковские склоны,
Там,
на снегу ничейном,
батальоны
Спои бушлаты сбросили во мгле.
Пехота поднимается морская,
В молчанье страшном из-за валуна, —
И, поле поперек пересекая,
Идет на штурм,
как черная волна.
Вода застыла в трубах,
стала хрупкой,
И поперхнулся льдом водопровод,
И генерал,
попыхивая трубкой,
Из-за стола порывисто встает
И трет виски ладонями.
И сразу
Все мысли обращаются туда,
Где днем и ночью из большого льда
Куют морозы Ладожскую трассу.
2
Табачный дым на глубине подвала
Витал вкруг лампы, над сукном стола,
Когда подглазья пылью обметала
Бессонница и веки подвела.
Когда на грани ночи и рассвета
Перерубил бессонницу звонок:
— Товарищ член Военного совета,
Лед Ладоги
уходит из-под ног!
И надо грызть
сухой блокадный хлеб
И ждать, чтоб лед на Ладоге окреп,
И так свивать
заветной трассы нить,
Чтоб с жизнью
Ленинград
соединить.
...А за окном
громадный город
врос
В блокадный мрак
и в непроглядный холод
И почернел от орудийных гроз,
Как старый дуб, что молнией расколот.
И в иней львы, оделись
и на льду
Вобрали в лапы каменные когти,
И патрули на Невском и на Охте
Идут, как в девятнадцатом году.
3
Восславим два великих ледостава —
На Ладоге один проскрежетал,
Другой на Волге.
Дважды вся держава
На лед ступила, словно на металл.
Как тонкое железо листовое,
Осенний лед широко распластав,
Под Ленинградом,
в грохоте и вое,
На Ладоге
работал
ледостав.
И тот, кто год запомнил сорок первый,
Уже не позабудет никогда,
Как таяли
у города
резервы
И замерзала
в Ладоге
вода.
А в штабе
перед вечером
устало
Склонялись офицеры над столом,
И улица от взрывов грохотала,
Снаряды рыли землю за углом.
Качался дым.
Кончался день осенний,
Простреленный на Пулковской горе
Морзянкой пулеметных донесений,
Огнем свинцовых точек и тире.
На темном рейде склянки отзвенели,
За волноломом выл студеный вал,
И полами продымленной шинели
Вечерний сумрак
Охту накрывал.
И вечер не успел еще начаться,
Когда усталый голос
из Москвы
Спросил:
— А не пора ли постучаться
В лед Ладоги,
как думаете вы?
И генерал
шагнул от телефона
В блиндажный покосившийся пролет
И вдруг увидел,
как побатальонно
Маршевики
спускаются на лед,
Как вся земля
советская
большая
Шлет эшелоны к ладожскому льду
И, Волховстрой гудками оглашая,
Дымятся паровозы па ходу.
Их двигает
по улице зеленой
Советская
незыблемая власть,
И лед не гнется под автоколонной...
Так
Ладожская трасса
началась.
РАССВЕТ ЭТОЙ ОСЕНИ
Такой туман без края над полями,
Что можно заблудиться, запропасть.
Шершавый иней пойман тополями
Па листья, не успевшие опасть.
Я плохо прежде понимал все это,
Я даром эту благодать имел —
Туманы предосеннего рассвета,
Земной покой на тридевять земель.
Я думал, что не может быть иначе,
Иной представить землю я не мог,
Когда над тихой сестрорецкой дачей
В туман вплетался утренний дымок,
И волны пену на берег кидали,
И с грохотом обрушивались близ
Угластых скал. И в утренние дали
Седые чайки между волн неслись
И, возвращаясь, свежесть приносили
В туманный, сонный, влажный Ленинград.
И не было земной осенней силе
Конца и края, смерти и преград.
К нам нелегко приходит пониманье,
Но эту красоту поймешь вдвойне,
Когда пройдешь в пороховом тумане
Полями в пепле, в свисте и в огне.
И станет ясно, что просторы эти
До гроба в плоть и в кровь твою вошли,
И ничего прекрасней нет на свете
Рассвета отвоеванной земли.
ПРОШЛА ВОЙНА
Я наблюдать случайно мог
Минуты две
От «ястребка» седой дымок
На синеве.
Он был такой не боевой,
Что даже мне
Тогда подумалось впервой
Не о войне.
Весенний небосвод глубок,
Но видно, как
Качнулся сизый «ястребок»
На облаках.
Зенит над городом сверля,
Взревел, как шквал,
Лирические вензеля
Нарисовал.
Я по-иному жить начну
Не потому,
Что забываю про войну
В его дыму.
Я просто на небе прочту,
Как на листе,
Послевоенную мечту
О высоте.
СЕГОДНЯ ДОЖДЬ
Ты снова спас меня от смерти,
Ты город превратил в село.
В твоем бесхитростном усердье
Дыханье зелени росло.
Ты вдруг напомнил мне, что рядом,
Об этом забывать нельзя, —
На Пушечной и за Арбатом,
Живут хорошие друзья.
Что кошки мокнут на карнизах,
Юлят кораблики в ручьях,
Что океан еще не высох
И свежий ветер не зачах.
Что в городе гремят вокзалы,
В дождях уходят поезда,
На пропыленные базары
Летит прозрачная вода...
Дождь воспевают в раннем детстве
На мокрых праздных площадях.
Но жизнь идет, и в смене бедствий
Мы забываем о дождях.
Завидим тучу — ив калоши,
И под навесы, под зонты,
И майский дождь нам не дороже
Стакана комнатной воды.
Гляди прищурясь из-за стекол!
Вот он, изломанный, живой,
Сорвался с тучи и зацокал,
Загарцевал по мостовой.
А ты лови его губами
Сквозь крыши, стены, этажи,
Смолой и рыхлыми грибами
В сыром проулочке дыши.
Живи как он. Не стань стоячей
Водой в укромных берегах.
Дождь на цветах за тихой дачей.
Дождь в караулах на штыках...
БАЛЛАДА О ВЗВОДНОМ
Ю. Гальперину
Мой взводный живет па Фонтанке,
Он пишет картину о том,
Как шли в наступление танки,
Ревя на подъеме крутом.
(Заря за окошком смеялась,
И ровно к двенадцати дня
Фонтанка совсем распаялась,
Распалась, бурля и звеня.)
Кисет извлекая походный,
С прикушенной трубкой во рту,
В рабочем халате мой взводный
Подходит к большому холсту.
Он каждую видит травинку
На колпинской мягкой земле,
Он каждую помнит кровинку
На каждом примятом стебле.
Советом помочь не рискую —
Советы ему не нужны, —
Вхожу по утрам в мастерскую,
Как в трудную память войны.
Не гаснут разрывов сполохи,
Солдат не уходит с поста,
Военные будни эпохи
На взводного смотрят с холста.
Лежат у нейтральной секреты,
И в расположенье полка
На передовой партбилеты
Вручает бойцам ДПК.
И стынут разбитые «берты»
В проломах осевшей стены...
Мой взводный стоит у мольберта,
Заляпанный краской войны.
(Быть может, стоим у костра мы
И песенка наша стара,
А эти тяжелые рамы
Пойдут на растопку костра?!)
И, чтоб не шагнуть на картину,
Назад,
под огонь,
на войну,
Ударю рукой в крестовину
И настежь окно распахну, —
Подтаявший лед оплывает,
Охрипли ручьев голоса,
И ветер холсты надувает,
Как поднятые паруса,
И синька совсем не морская
Становится синью морской, —
Сейчас поплывет мастерская
По валкой по зыби мирской.
(На судостроительной верфи
Про шторм узнают корабли,
И мачтовым соснам на ветви
Соленые брызги легли.)
Погода стоит штормовая!
Живем у высокой волны,
И каждое утро, вставая,
Мы ей умываться должны.
Стоит штормовая погода,
Колотится в дамбу прибой.
Весной позапрошлого года
Мы за город вышли с тобой.
Ты помнишь, как все океаны
Замолкли, меняясь в лице,
Когда перед нами фонтаны
Ударили в Петродворце?
Стояли у каменной кромки
Солдаты блокадных полков
И слушали лепет негромкий,
Натруженный голос веков.
Пробившаяся из-под камня,
Смеялась и пела струя,
И песня ее дорога мне
Была, словно песня своя.
Стояли блокадные взводы
Повзводно у каждой струи,
А в городе пели заводы
Гражданские песни свои.
Народа ликующий гений
Притронулся к лире стальной,
И синий огонь автогенный,
Как отзвук, дрожал над струной.
А отсвет в окно на Фонтанке
Проник, обжигая холсты,
И высветил жухлые танки
На склоне крутой высоты,
Ощупал разбитые «берты»,
По грунту лучом полоснул,
Ударил в треножник мольберта
И новые краски плеснул.
И взводный большими глотками
Высокое пил торжество.
Склонялись ткачи над станками
И ткали холсты для него.
А солнце горело в зените
И сквозь цеховое окно
Нагрело суровые нити
На фабрике «Веретено».
Ю А, Межиров
ВСТУПЛЕНИЕ В ПОЭМУ
Холст передо мной. Он загрунтован,
Тужится, натянутый до треска.
Ко всему что ни на есть готов он.
И стоит. И просит красок резких.
Полоснуть наотмашь свежей кистью —
И теплушкам лягут под колеса
Подмосковных листопадов листья,
Пулями пронизанные косо.
И пойдут вертеться эшелоны,
Разрывая холст на мириады
Мелких клочьев. И пойдут колонны —
Ополченцев пестрые отряды...
Стройный ветер, в листопад одетый!
Старый нестареющий товарищ!
На каких меридианах? Где ты?
С грозами какими тарабаришь?
Я стою перед холстом, робея.
Краски, краски, краски штабелями.
Дымная седая эпопея
Мчится над лесами и полями.
Ты пад ней шатался днем и ночью,
Стройный ветер, в листопад одетый.
Ты, незрячий, увидал воочью
Все, от пораженья до победы.
Па моем холсте одни лишь пятна.
Я мечтаю разобраться в сути.
Суть проста. Проста и — непонятна.
Это люди...
2-Й МОНОЛОГ
Над Десной опять лоза, лоза.
Над Телячьим островом гроза.
То днепровский облак над Десной.
Родина! Опять в мои глаза
Ты глядишься древней новизной.
Над Невой опять туман, туман.
Вечереет. Время но домам.
Мне знакомо это, как и то,
Мне знакомо это от и до.
Над Москвой-рекой гранит, гранит,
Мрачный мост перилами звенит.
В дымах заводских голубизна.
И опять все та же новизна...
Чуть не четверть века я прожил,
Реками-дорогами кружил.
Ты ответь мне, колея-змея,
Спутница лукавая моя:
Где родился я? И где я рос?
Невским льдом пытал меня мороз.
В лозняках горячих за Десной
Опалил лицо и руки зной.
Над Москвой-рекой, хлестьмя хлеща,
Освежили косяки дождя...
Снова будут грозы, будет снег,
Снова будут слезы, будет смех.
Всюду — от Десны и до Десны,
Вечно — от весны и до весны.
Идут дни, дождем и льдом звеня,
Да гудки тоскуют над Десной.
Поезд, уходящий без меня,
Отойдет когда-нибудь со мной.
Понял я — число земных дорог,
Троп, тропинок, стежек и путей
То же, что число земных тревог,
То же, что число земных страстей.
Понял я, что наша смерть — пустяк.
Жалок образ смертного одра.
Если люди на земле грустят —
Это потому, что жизнь щедра.
Но когда снарядом над тобой
Разнесет накаты блиндажа,
Ты увидишь купол голубой
И умрешь, тем блеском дорожа.
Снова будут грозы, будет снег.
Снова будут слезы, будет смех.
Всюду — от Десны и до Десны,
Вечно — от весны и до весны.
* * *
После боя в замершем Берлине
В тишине почти что гробовой,
Подорвался на пехотной мине
Русский пехотинец-рядовой.
Я припомнил все свои походы,
Все мои мытарства на войне,
И впервые за четыре года
Почему-то стало страшно мне.
* * *
Дорога, на бугры взлетая,
Раскручивает колею,
То ровная, то вдруг крутая,
Протоптанная по былью.
Танцует кузов у трехтонки,
В кабине потолок промят, —
Там в чьи-то душу и неченки
Шофер вколачивает мат.
Блестят знакомые Стожары,
Бежит неяркая земля,
Да этот березняк поджарый,
Да высохшая колея,
Да этот драндулет-калека,
Осей визгливых голоса,
Эх, пропади моя телега
И все четыре колеса...
А ночь в дороге не иная,
Чем сто таких же до нее.
Задумалась, припоминая:
Березы, звезды, воронье.
Да и шоферская работа
Под стать ямщицкому труду Распарься до седьмого пота
И околей на холоду.
Все та же, та же, та же, та же
В избенке слезы льет вдова,
И у шоферской песни даже
Почти ямщицкие слова.
ТРЕВОГА
Нынче с самого утра
Сердце бьется и не бьется, —
Дождик льется в полдвора —
От ворот и до колодца.
А другая половина
Солнышком озарена,
Света гулкая лавина
Цвета спелого зерна.
Не по мне погода эта,
И с утра томит меня
Полутени, полусвета
Суетливая возня.
Словно вперекор цветенью,
На рассвете,
В день весны,
Полусветом, полутенью
Получувства рождены.
Вижу небо в тучах тощих,
Двор знакомый небольшой,
Полувёдро, полудождик
Ненавижу всей душой.
Не хочу делиться частью,
Частью целого себя,
Утешаться полустрастью,
Не ревнуя, не любя.
И ютиться в хате с краю,
У событий на краю,
Полумерами карая
Половинчатость свою.
Выходить на полустанках,
Забываться в полусне.
Разве в танковых атаках
Не стоял я на броне?
Как меня на полдороге
Успокоить жизнь могла?
Разве не было тревоги,
Той, что к бою подняла?
Разве не было на свете
Льда над ладожской водой,
На котором гибли дети,
Убеленные бедой,
По которому в молчанье,
Спотыкаясь на ходу,
Шли мои однополчане
В сорок памятном году,
Шли туда,
туда, где город
Дни и ночи напролет,
Перебарывая голод,
Под обстрелами живет.
Там от выстрела поныне
Над «Авророю» дымок,
Чтобы я на половине
Успокоиться не мог.
ГРЯДУЩИЙ ГОРОД
Будет сердце биться все быстрее
И замолкнет вдруг на полустуке.
Где-то у разбитой батареи
На груди крестом мне сложат руки...
Нет, не сон усталый после боя,
Только явь рождала эти строки:
Я увидел город пред собою,
Накрепко сколоченный и строгий.
В новых руслах протекали реки,
Люди поклонялись новым песням.
Это было в неизвестном веке
Эры той, в которой мы воскреснем.
Нам не помогали гномы с Марса
На планете наводить порядок.
Нашими руками обновлялся
Этот мир — из взрывов и из радуг.
Вот он, город. Не мечта пустая.
Плоть его тверда и ощутима.
Он звенит, все выше вырастая,
Голубой от голубого дыма.
Мы должны воскреснуть в этом веке!
Но не только в памяти — бескровно, —
Совестью в грядущем человеке,
Дышащие гневно и неровно.
Вы должны нас воскресить, потомки!
Через синий ледниковый холод,
Сквозь непроходимые потемки
Провести на праздник в этот город.
Если бы вы знали, как мы жили!
Как, сгорая, жгли напасть большую!
Я клянусь — мы честно заслужили
То, о чем сегодня так прошу я.
А до вас об этом в книжной груде
Долетят одни лишь только клочья.
У меня друзья — такие люди! —
Вы должны их увидать воочью.
Над Москвой тревожный ветер мая
Боевым прожектором распорот,
И, во флягах время подымая,
Пьют они за ваш великий город.
ЛЕНИНГРАДЕЦ
Мне нравится город, соленый
От слез и от влаги морской,
Мне нравится город смоленый,
Мне нравится город такой —
В широкой, но тесной тельняшке
Под грубым бушлатным сукном,
Со спиртом пайковым во фляжке,
С эскадрой на рейде ночном.
Мне нравится пенный и бурый
Прибой у ощеренных стен
И грозный патруль диктатуры
С гранатами разных систем.
Меня высоко подымало
На каменной невской волне,
И крепкого горя немало
Хлебнуть посчастливилось мне.
(Тащи за ремень волокушу
По самой неторной тропе!
Когда перегреется кожух,
«Максима» смени на «ДП»!
Ползли через бруствер покатый
Тушить пулеметный очаг!)
Железная тяжесть блокады
Лежала на этих плечах.
Но, путь отвергая окольный,
Я в рост распрямлялся на льду
И штаб Революции — Смольный —
Спасал в сорок первом году.
* * *
Крытый верх у полуторки этой,
Над полуторкой вьется снежок.
Старой песенкой, в юности петой,
Юный голос мне сердце обжег.
Я увидел в кабине солдата,
В тесном кузове — спины солдат,
И машина умчалась куда-то,
Обогнув переулком Арбат.
Поглотила полуторатонку
Быстротечной метели струя.
Но хотелось мне крикнуть вдогонку:
— Здравствуй, Армия, — юность моя!
Срок прошел не большой и не малый
С той поры, как вели мы бои.
Поседели твои генералы,
Возмужали солдаты твои.
И стоял я, волненьем объятый,
Посредине февральского дня,
Словно юность промчалась куда-то
И окликнула песней меня.
ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
В следующем году было много побед.
Э. Хемингуэй
Ты пришла смотреть на меня.
А такого нету в помине.
Не от вражеского огня
Он погиб. Не на нашей мине
Подорвался. А просто так.
Не за звонкой чеканки песню,
Не в размахе лихих атак
Он погиб. И уже не воскреснет.
Вот по берегу я иду.
В небе пасмурном, невысоком
Десять туч. Утопают в пруду,
Наливаясь тяжелым соком,
Сотни лилий. Красно. Закат.
Вот мужчина стоит без движенья
Или мальчик. Он из блокад,
Из окопов, из окружений.
Ты пришла на него смотреть.
А такого нету в помине.
Не от пули он принял смерть,
Не от голода, не на мине
Подорвался. А просто так.
Что ему красивые песни
О размахе лихих атак, —
Он от этого не воскреснет.
Он не мертвый. Он не живой.
Не живет на земле. Не видит,
Как плывут над его головой
Десять туч. Он навстречу не выйдет,
Не заметит тебя. И ты
Зря несешь на ладонях пыл.
Зря под гребнем твоим цветы
Те, которые он любил.
Он от голода умирал.
На подбитом тапке сгорал.
Спал в болотной воде. И вот
Он не умер. Но не живет.
Он стоит посредине Века.
Одинешенек на земле.
Можно выстроить на золе
Новый дом. Но не человека.
Он дотла растрачен в бою.
Он не видит, не слышит, как
Тонут лилии и поют
Птицы, скрытые в ивняках.
* * *
Когда-нибудь, лет через тридцать пять,
Однажды ночью мне наскучит спать
Без сновидений. Утром рано-рано
Я выйду на широкий перекресток,
И вдруг заноет пулевая рана,
Забытая давно.
Пройдет подросток,
Пройдет, ровняя строй, походкой твердой.
За ним второй, и третий, и четвертый,
И гордо улыбнутся мне они.
Какие-то далекие огни
Полнеба разрисуют на мгновенье,
Какие-то разорванные звенья
Прошедшего промчатся надо мной,
И все исчезнет...
Улица...
Войска...
Товарищ, убеленный сединой,
К плечу рукой притронется слегка,
И я скажу ему: — Семен, смотри
На эти знаки утренней зари... —
И замолчу. И не договорю.
И снова мы увидим ту зарю
Июньскую,
которая прожгла
Десятки лет.
И снова над Москвой
Огонь ее расцветки боевой,
В котором наша молодость прошла.
И мы, покинув улицу, войдем
В многооконный, многолюдный дом.
Тяжелой шторой заслоню зарю,
И трубку на диване закурю.
Но чтобы позабыться я не мог,
Над трубкой вздрогнет голубой дымок
И оживут далекие года...
Нам в этот день не скрыться никуда
От памяти,
которая прожгла
Десятки лет
и стала в горле сгустком.
И сделается вдруг совсем легко нам
Понять, что наша молодость прошла,
И властно загремит на Белорусском
Команда:
— По вагонам! По вагонам!
ПАМЯТИ ДРУГА
С. Гудзенко
До сих пор я поверить не в силах,
Вспоминая родные черты,
Что к солдатам, лежащим в могилах,
Раньше многих отправишься ты,
Что тебя не подымет над тучей
Самолет со звездой на крыле,
Что под сенью березы плакучей
Отдыхаешь в родимой земле.
В той земле, для которой ни крови,
Ни дыхания ты не берег,
Что стоит у тебя в изголовье,
Вдоль пройденная и поперек.
Нас везли в эшелонах с тобою,
Так везли, что стонала земля,
С Белорусского — на поле боя,
И с Казанского — в госпиталя.
Ни кола, ни двора, только ноги...
Был твой подвиг солдатский тяжел.
Ты назывался поэтом дороги
И ни разу с нее не сошел.
Потому я и верю, что где-то
Между Кушкой и Дальней Тувой,
Весь в сполохах сигнального света,
Мчится поезд грохочущий твой.
Или, может быть, от эшелона
В Закарпатье случайно отстав,
Ты проселком бредешь утомленно,
Догоняешь товарный состав.
Мне совсем не покажется странпым,
Если с поезда только, с пути
Ты стоишь у дверей с чемоданом,
Ключ в карманах не можешь найти.
ГОДЫ ЧКАЛОВА
(Из поэмы)
1. В ЮНОСТИ
Сиял огонь.
Приподымался молот.
И около железа, глуховат,
Стоял отец.
Он ловок был и молод, —
С верховья до низовья
Нарасхват.
Подручный пошевеливался робко,
В углу шуруя уголь и золу,
И прикипала
Чкаловская клепка
Навечно
К пароходному котлу.
Катился дым
К береговому срезу.
Клубился зной над Волгой, на юру.
Дни глохли от ударов по железу,
И долго
остывали на ветру.
А по траве,
Не то широкоплечий,
Не то крылатый
(Разбери пойди!),
Шел заводила, первый на Заречье,
И видел волны неба впереди.
Он множество испробовал ремесел.
Он точно помнил,
Почему и как
Мозоли на руках его от весел,
И уголь в порах,
И огонь в зрачках.
А впереди
Томленье,
Август,
Дрема,
И небеса на тыщи верст кругом,
И луг, пригодный для аэродрома,
Под яловым тяжелым сапогом.
И на траве
Предутренние росы,
Луг заливной
До стебелька намок.
Он думал здесь.
Вон дым от папиросы
Или от истребителя дымок...
НА РОДИНУ
Снег шел всю ночь.
Его никто не слышал.
О нем никто и не подозревал,
А он из туч, пошатываясь, вышел
И тихо лег
Под насыпью
Вповал.
Состав, гудя, причалил к полустанку
И стал,
Уткнувшись в белую волну,
И Чкалов,
Как на скатерть-самобранку,
Ступил на снеговую целину.
Январский куст,
Как облетевший веник,
Мел возле горизонта облака.
И мимо занесенных деревенек
Дорога потянулась, далека.
Стекло в кабине
Опустил проезжий
И, поместившись около руля,
Вдруг хохотнул,
Вдыхая ветер свежий:
Ну что, довольна,
Матушка-земля?
Вот еду я,
К тебе, земля, прижатый
(Не оторваться на любом газу!),
А в небесах
Я твой, земля, вожатый,
Мне кажется,
Что я тебя везу.
Мне кажется,
Что я тебя вращаю,
Что в новый день,
Тяжелую,
Тяну,
Что ото всех ненастий защищаю
Одну тебя
И родину одну...
Пар коченеет около причалов.
Кричат мальчишки (что — не разберу).
И смотрит улыбающийся Чкалов
На необыкновенную игру.
Над кузней — дым,
Как вороная грива.
Снег запятнала
Угольная ржа.
Малец на лыжах прыгает с обрыва,
От страха и от радости визжа.
Как перед боем сброшенные робы,
Лежат сугробы
В угольной пыли.
И Чкалов притормаживает, чтобы
За кузней
Тормоза не подвели.
А паренек
Вылазит из-под снега,
И щеки трет,
Й, прыгая внизу,
На крутосклон карабкаясь с разбега,
Орет:
— Не дрейфь, хозяин!
Подвезу!
Над ним —
Отвесно падающий берег,
И взвоз,
И кузня в угольном дыму.
Пути —
До полюсов и до Америк —
С обрыва
Открываются
Ему...
САМОЛЕТЫ ВЫХОДЯТ НА СТАРТ
Он думал о Москве.
Среди громадин,
В единый строй поставленных Москвой,
Из-под крыла
Особенно нескладен
Вот тот кривой домишко угловой.
Его порушат
И опять построят
Таким,
Чтобы обрадовался взгляд,
И трижды высоту его утроят.
И чистым светом
Окна застеклят.
И, глядя на заката позолоту
Через окно шестого этажа,
Мальчишка
улыбнется
самолету,
От страха и от радости дрожа...
Он думал о Москве,
Когда рванула
К себе земля
И набок вдруг легла,
Когда струя бензина полыхнула
И пламенем
Крыло переплела.
И теплые, натруженные руки
Стать крыльями пилота
Не смогли
И за одну минуту до разлуки
Легли
На отказавшие рули.
В движенье нарастающем и лютом
К нему земля
Придвинулась в упор.
А он
Владеет всем,
Но парашютом
Владеть
не научился до сих пор.
И, утверждая
древние законы,
Пространство распоров наискосок,
Кулак земли,
Тяжелый и знакомый,
С размаху
опустился
на висок.
Минута
Раскололась от ударов, —
И на аэродромах всей земли,
Выруливая к старту из ангаров,
Пилоты
на задания
пошли.
ЗАВТРА
Я просыпаюсь по ночам, когда
Еще стоит в проулке
Темь глухая
И, листовым железом громыхая,
Стремится к водостоку
Глыба льда.
Я просыпаюсь по ночам в тревоге,
Как в поезде на дальней стороне,
Как на войне
Под утро в тишине,
Как под телегой где-нибудь на Волге.
Я слушаю начальную весну,
Запоминаю звуки непростые,
Ночей апреля сумраки густые —
И потому
до света не усну.
Я снова слышу,
Как в оконной раме
Дрожит и дребезжит квадрат стекла,
И вижу над рассветными дворами
Косую тень скользящего крыла.
И входит Чкалов
в комнату мою,
И гнутся под унтами половицы,
И мне бы не мешало удивиться,
Но я не удивляюсь
И встаю.
Он говорит,
Что новый самолет
В полете над Юпитером испытан,
И хоть от напряжения скрипит он,
Но не отступит и не упадет.
Он говорит,
Что воздух Марса пресен
И бесконечны млечные пути,
А дни идут —
И лучше волжских песен
Ни на одной планете не найти.
Он говорит:
— Когда в дороге долгой
Я вспоминать о юности начну,
Пою сначала
Про утес над Волгой,
Потом про атамана и княжну.
И, от земли отцовской в отдаленье,
Мне до удушья хочется порой
Стать возле самой Волги на колени,
Над старым взвозом,
На земле сырой.
Из дымной кузни
выйдет мне навстречу
Седой кузнец в переднике своем,
И мы пройдем по милому Заречью
И что-нибудь хорошее споем.
Луга увижу скошенные эти,
Кривой пожар в растрепанном стогу...
Без этого всего
на белом свете
И жить и плакать
вовсе не могу.
А смерть моя
описана неверно.
Писать о ней, я знаю, тяжело,
И попросту не понял ты, наверно,
Как это все со мной произошло.
Когда моторы
Разом замолчали
И облизнул обшивку тонкий лед, —
Скажу тебе по совести,
Вначале
Я повернул направо самолет.
Там были крыши —
Плоские площадки,
Такие,
что и глаз не отвести.
Они должны
спружинить при посадке,
Смягчить удар
и жизнь мою спасти.
Там были крыши!
Плавал дым над домом,
Топтался дворник около скамьи,
И спали в этом доме незнакомом
Усталые сограждане мои.
И сквозь передрассветную дремоту
Под крышей
В наплывающем дому
Мальчишка улыбался самолету.
Мальчишка спал,
и снился я ему.
Его дыханье чувствуя и слыша,
Всю жизнь храня спокойный сон его,
Я понял вдруг, что крыша,
эта крыша,
Через мгновенье рухнет на него.
На полукружье,
руки сжав до боли,
Я повернул штурвал своей судьбы —
И в тот же миг
пришпоренное поле
Под плоскостями встало на дыбы.
Все дальше струйка дыма отплывала,
Мальчишка спал, губами шевеля.
Я грудью лег
на полукруг штурвала,
И мне навстречу
хлынула земля.
Со всех сторон
стремительно и плавно
Она в кабину тесную лилась.
Заплакала в Путивле Ярославна,
И Ольга ей в Москве отозвалась.
Прощай, жена!
В Заволжье над лугами
Все те же звезды гасли на лету,
Бодался месяц гнутыми рогами,
И время
набирало высоту.
Оно крылами било
и летело,
И, воскрешая мой последний миг,
В комбинезоне тлеющем
Гастелло
Вел самолет
к цистернам —
напрямик.
До гроба долгу воинскому верный,
Со мной в порыве слился он одном,
Когда вверх дном
шарахнулись цистерны
Над железнодорожным полотном.
Пора в дорогу!
На аэродроме
Проснулся испытатель.
Рассвело.
И над ангаром в облачном проеме
Седое обозначилось крыло.
Там ранний дым редеет, оседая
На только что оттаявшей траве,
И сталь крыла,
туманная, седая,
В туманной пропадает синеве.
Пойдем туда!
Там дышится свободней,
Там пахнет ветер
талою водой.
И по траве неяркой, прошлогодней
Идет вразвалку летчик молодой.
Над ним небес прохладные глубины,
Под сапогами талая вода.
Сидит механик около кабины,
Поет о том, что горе не беда.
Пойдем туда!
Я знаю путь короткий,
Аэродром отсюда невдали,
Крылатый день
предсказывают сводки.
Держи кисет. Закуривай.
Пошли!
* * *
Пусть век мой недолог —
Как надо его проживу.
Быть может, осколок
Меня опрокинет в траву.
Иль пуля шальная
Мой путь оборвет на юру.
Где — точно не знаю,
Но знаю, что так я умру.
В тот час, как умру я,
Лицо мое стягом закройте
И в землю сырую,
И в землю родную заройте.
Закройте лицо мне
Гвардейского стяга огнем, —
Я все еще помню
Дивизии помер на нем.
Он золотом вышит
На стяге, который в бою
Играет, и дышит,
И радует душу мою.
В КОМСОМОЛЬСКОМ ПОЛКУ ПЕРЕД БОЕМ
Перед боем в степи
От большого затишья мертво.
Память, только не спи!
Мне и так не припомнить всего.
Но о том, как в снегу
Комсомолец лежал под огнем,
Рассказать я смогу,
Не смогу позабыть я о нем.
Маскхалат чуть белей,
Чуть светлей, чем степные снега,
Чем сугробы полей
В запотевшем прицеле врага.
Мы тушили костры,
Нас во мраке разыскивал враг,
Мы сползали с горы
На исходный, в глубокий овраг.
Нам звонил генерал,
И, петляя в траншеях кривых,
Наш комсорг подбирал
Для разведки ребят боевых.
Перед боем душа
Жестока, и нежна, и щедра.
Мы вставали спеша.
Мы шептали комсоргу: — Пора...
Восемь дотов тупых
Вдоль ничейного снега торчат.
Над ракетницей вспых,
Над ракетчиком темень и чад.
Восемь дотов вразмол!
(Амбразуры огнем не моргнут.)
Здесь пойдет комсомол
Через десять — пятнадцать минут.
А пока на боку
Наш комсорг проверяет наган,
В комсомольском полку
Повторяют приказ по слогам.
Перед боем в степи
Тишина холодна и мертва,
Но летят по цепи
От солдата к солдату слова:
— Я пригнусь и рванусь
По зазубренной кромке огня.
Если я не вернусь,
Коммунистом считайте меня...
НАДПИСЬ НА КНИГЕ П. ШУБИНА «ПАРУС»
Сегодня в магазине книжном
Я встретил молодость твою,
Она стояла в неподвижном
Букинистическом строю.
Я встретил молодость поэта.
В обложку плотную она
Была обута и одета
И кем-то переплетена.
Обложка светло-голубая,
Где парусник в голубизне
Скользит, воды не прогибая,
Давным-давно известна мне.
Но мне сегодня нужно очень,
Чтобы над титульным листом
Склонился ты, сосредоточен
В раздумье кратком и простом.
И чтоб рукою сильной, Павел,
Как в годы памятные те,
Ты подпись твердую поставил
Вверху на титульном листе.
Тебя искать хочу повсюду,
Догнать, ударить по плечу, —
Не потому, что верю чуду,
А потому, что так хочу!
Столкнуться на Волхонке в чайной
И слушать, не скрывая слез,
Твой вымысел необычайный,
Где все не в шутку, а всерьез, —
Твою фантазию, художник,
Твою бессонницу, поэт.
А тот, кто заподозрит ложь в них,
В том правды не было и нет.
Но я тебе поверил, Павел,
Ты, как и всем друзьям живым,
В наследство парус мне оставил,
Набитый ветром штормовым.
ЕЛЕНА
До рожденья твоего на Лене
По реке
Плыла твоя краса.
Рыбаки вставали на колени,
С мачт лететь хотели паруса,
Плакали рыбачки в плоскодонках,
От внезапной ревности скорбя.
Но в сетях решетчатых и тонких
Никогда не видели тебя.
Льдины заплуталые стучали
В черные смоленые борта.
Говорила буря на причале:
«Лена! Красота твоя крута!»
Шла река сквозь ветер ледовитый
На простор, от века ледяной.
Чистыми туманами повитый,
Плыл твой лик над кованой волной.
И рыдали вдовые метели,
Перенапрягая голоса:
«Ах, над пеной зубы заблестели!
Ах, сверкнули карие глаза!»
Это ты дразнила их, Елена,
Да однажды, наигравшись всласть,
Ускользнула из речного плена
И, не попрощавшись, родилась.
* * *
Ливня июньского мокрые плети
Падают в горы.
Крепко целую тебя на рассвете
В городе Гори.
Здесь поскользнулась Ильи колесница.
Грохот обвала.
С тучи московской тебе на ресницу
Капля упала.
Птицы поют над Картлийской долиной,
Песня — нетленна.
Свист соловьиный, клекот орлиный
Слышишь, Елена?
Розы снопами бросают горянки
Прямо в корзины.
Розы выносят на пыльной Полянке
Из магазина.
В небе разбуженном грохот и вспышка
Метеорита.
Камешек с улицы бросил мальчишка,
Стекла разбиты.
Путь, через пропасти перебегая,
Мчится и мчится,
Но все равно мне с тобой, дорогая,
Не разлучиться.
Ливня июньского мокрые плети
Падают в горы.
Крепко целую тебя на рассвете
В городе Гори...
ПЕСЕНКА САГУРАМО
Незнакомая страна...
Родниковая струна
День и ночь звенит под камнем
Возле самого окна.
Горы около зари.
Рассветает ровно в три.
Ветерки над Сагурамо —
Облаков поводыри.
Дремлет подле родника
Погруженная в века
Кахетинская посуда,
Захмелевшая слеша.
Незнакомые края...
Родниковая струя
День и ночь о камень точит
Ледяные лезвия.
ТВЕРДЫНЯ
Гремит листва над кроной Зедазени1,
И, повременно изменяя цвет,
Лесистых скал природные ступени
Спускаются к Тбилиси и на Мцхет.
На Зедазени храм стоит веселый,
Есть виноградный сок в монастыре,
И, этим соком рог наполнив полый,
Монах молебны служит на заре.
Он здесь живет, постов не соблюдая,
Стареет, и, наверно, потому
Во сне одна грузинка молодая
По вечерам является ему.
А я стою перед замшелой дверью,
Запоминаю, слушаю, смотрю.
Монашеской молитве я не верю,
Не верю ни на грош монастырю.
Когда над храмом с грохотом теснится
И зажигает молнии гроза,
Я вижу не иконы, а бойницы
И амбразуры, а не образа.
Как здесь монах смирит свою гордыню,
Когда вокруг не тишина, а бой!
Не монастырь, а древнюю твердыню
Я вижу в час грозы перед собой.
И не смолкает гул раскатов зычных,
Где в полуразвалившихся стенах
Ютится неразгаданный язычник,
Скорее ратник, нежели монах.
1 Зедазени — гора близ Тбилиси и Мцхета.
СЛОВО НА КАХЕТИНСКОМ ПРАЗДНИКЕ
Я знаю цену этому вину.
Я в нем не захлебнусь, не утону.
Сквозь грань стекла, через прозрачный сок
Я вижу опаленную страну.
Мне слышен треск сгорающей лозы,
И женский плач летит во все края,
И в каждой винной капле вижу я
Запекшуюся капельку слезы.
Прошедший сквозь великую войну,
Я знаю цену этому вину
Не как историк, а как винодел,
Который прожил в Грузии века,
На Тамерлана с яростью глядел,
А в этот день помолодел слегка.
ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ
1
Опять осенняя листва
Легла в обычный срок,
Как вышивка на рукава
Проселочных дорог.
И в полусвете над трубой, —
Зачем? Не знает сам, —
Дымок воскресный голубой
Восходит к небесам.
Зачем ты просишь каждый день
Свидетельства любви?
Рифмованную дребедень
Возьми и разорви.
Твой дом в проулке как гнездо,
Над ним шумит листва,
И ты как птица в нем, Додо,
И не нужны слова!
2
Проулок Театральным величали,
Он от проспекта падал вниз к реке.
Я помню осень
Знойную вначале,
И голубые горы
Вдалеке.
Я помню имя
Женское и птичье,
Двойную ноту музыки его,
И театральных жестов безразличье,
И театральных взглядов плутовство.
А по проспекту, важный и вальяжный,
Людской поток струился не спеша.
Стоял в проулке дом одноэтажный,
Распахнутыми окнами дыша.
Листы чинар с восхода бронзовели,
Мне улыбалась женщина в окне, —
На медленном проспекте Руставели
Горел я, как на медленном огне.
* * *
На пыльном базаре вода из колонки,
Как ты, холодна и светла,
На пыльном базаре такие девчонки,
Какой ты когда-то была.
На пыльном базаре веселые люди,
Смеяться умеют они,
И бродит вино в кахетинской посуде.
Присядь, и пригубь, и тяни!
На пыльном базаре торговля без плана,
Базарных торговок возня.
И смотрит большими глазами Светлана,
Светлана глядит на меня.
На пыльном базаре, под небом нарядным,
Храня независимый вид,
В граненом стакане с вином виноградным
Светлана, Светлана стоит.
* * *
Мы звезды ловили, — я пальцы обжег
И па леднике остудил.
Я, может, от гибели был на вершок,
Мой конь выбивался из сил.
Мы звезды ловили, —
Я пальцы обжег.
И видел лавины
Звериный прыжок.
Рожок гуртоправа
Играл мне все лето,
И жмурились травы
От резкого света...
И каменный путь грохотал под копытом.
И билось вино в бурдюке недопитом.
ГРУЗИНСКИЙ ТАНЕЦ С МЕЧАМИ
Сохрани меня, танец,
На веки веков
От оков,
От заученных слов!
Проведи меня, танец,
По светлой стране,
По весенней струне!
Чтоб звучала струна,
Чтоб крепчала весна.
Подыми меня, танец,
Над горным хребтом.
Л потом
Опусти,
Не обрежь
У студеной реки
О зеленые травы-клинки.
Расколи о колено грохочущий бубен!
В эту ночь мы о небе и звездах забудем, —
Мы запомним лишь землю,
Которую все
В эту ночь
Увидали
В особой
Красе.
Эту землю,
Которой проходит легко
На носках
Под неистовый гик
Илико...
Он идет, и в пыли запевают мечи
Возле самой
заломленной
каракульчи.
За оградой на привязи кони храпят,
Чистой пеной кропят удила.
И железные цепи, как кости, скрипят
На зубах у овчарок.
И мгла.
То ли топот
Приглушенных пылью
Подков,
То ли бубен
Пространство дробит...
Окружи меня, танец, на веки веков!
Подари мне свой праздничный быт!
МИГ
Стой! Запомни это полуночье,
Как тревогой наливалась мгла...
Вдруг
на речке
рядом
льдины — в клочья,
Сердце — в клочья,
жизнь из-за угла.
В этот миг ребеночек родился,
Маленький, глазастый человек.
В честь его
Мир взял и нарядился
В струи ливней, в половодья рек.
А малыш пищит в безмолвие комнат.
Шторы. Лампы. Запах сулемы...
Пожалей его — он не запомнит
Миг, который пережили мы.
* * *
Я по утрам ищу твои следы:
Неяркую помаду на окурке,
От мандарина сморщенные шкурки
И полглотка недопитой воды.
И страшно мне, что я тебя забуду,
Что вспоминать не буду никогда.
Твои следы видны везде и всюду,
И только нет в душе моей следа.
* * *
Все выдумал —
И друга и жену.
Придумал все —
Любовь и даже бога.
Но ты — превыше вымысла любого.
Не смог придумать лишь тебя одну.
Зато сумел все вымыслы прочесть
В глазах оттенка серо-голубого, —
И это выше вымысла любого, —
Люблю тебя такой, какая есть!
ГОРЫ
Этот снег, он растаял бы вскоре,
Если б ветром его отнесло
От нагорий Кавказа в Приморье,
Где зимой, словно летом, тепло.
Но оттаять в объятиях юга
До сих пор я никак не могу
И дышу, как сибирская вьюга,
На зеленом твоем берегу.
МЕДВЕДЬ
Лапой крушил молодые дубки,
Бор оглушал, рыча.
И были жилы его крепки,
И кровь была горяча.
Ранней весной из берлоги — вон!
Гнилью разит листва.
На ветках звон, и в ушах звон,
И кружится голова.
Зиму наскучило спать да говеть,
Он по натуре не крот, —
Идет, пошатываясь, медведь,
Шерсть о кору трет.
Шел, пошатываясь, медведь,
Все по-новому замечал
И лишь потому, что не мог петь,
Р-р-рычал.
Лет своих никогда не считал,
Товарищей не имел,
О лучшем не думал и не мечтал,
За то, что есть, постоять умел.
Врагов о милости не молил,
Не ведал земной тоски,
Медвежатников наземь валил,
Ломал рогатины на куски.
Но из-за дерева — из-за угла —
Ничтожная пуля его подсекла.
Даже меха не повредила
Дырочка тоненькая, как шило,
Но кровь, на месте застыв, остыла,
И стали дряблыми жилы.
Ему ножом распороли живот
Без всяких переживаний.
Мочили, солили, сушили — и вот
Он стал подстилкою па диване.
На нем целуются, спят и пьют,
О Пастернаке спорят,
Стихи сочиняют, песни поют,
Клопов керосином морят.
В центре Москвы, от лесов вдали,
Лежит он, засыпанный пудрой дешевой.
Как до жизни такой довели
Его, могучего и большого?
Оскалена жалко широкая пасть,
Стеклянны глаза-гляделки.
Посмотришь — и думаешь: страшно попасть
В такую вот переделку.
* * *
Две стены, окно и дверь,
Стол и табуретка.
В эту комнату теперь
Ты приходишь редко.
И огонь в окне погас,
Плотно дверь закрыта.
Этой комнате сейчас
Не хватает быта.
Видно, бытом ты была,
Жизнью не была ты,
Мы, имея два крыла,
Не были крылаты.
Я забыл, что ты жива,
Мне бы вспомнить хоть слова:
Имя или отчество.
В этом доме нежилом
Бьет единственным крылом
Наше одиночество.
* * *
Как же мог умолчать я об этом,
Столько слов понапрасну губя,
Если беды мои рикошетом
Прежде всех попадали в тебя.
Повстречавшись впервые с тяжелой,
Ниоткуда пришедшей бедой,
Ты красивой была и веселой,
Ты была молодой-молодой.
Падал я под раскатами боя,
За ошибки платил по счетам,
Все обиды мои за тобою,
Неотступные, шли по пятам.
Каждой раной, царапиной каждой
Искажало родные черты.
В дни, когда изнывал я от жажды,
Изнывала от жажды и ты.
Но у жизни просил я участья
И надеялся из года в год,
Что осколок случайного счастья
Рикошетом в тебя попадет.
Ты кормилась бедой и обидой,
Кровь и пот отирала с чела
И сегодня тому не завидуй,
Кто счастливым казался вчера.
* * *
Я хочу сообщить хоть немного простых,
Но тобой позабытых истин,
Смысл которых тебе ненавистен...
Будет холодно в доме от комнат пустых,
И на тысячи прочих домов холостых
Будет наше жилище похоже.
Если стужа — мурашки по коже.
Ну, а если июль, ну, а если жара,
Это значит — по стенам над копотью ламп
Будет тени большие бросать мошкара,
Будет хаос...
А я загоню его в ямб.
Буду счастлив. И пронумерую листы.
Ну, а ты? Ну, а ты? Ну, а ты?
Я умру под колесами жизни своей кочевой,
Голос твой мне почудится перед атакой.
Будут сборы в дорогу, и споры, и пар над Невой,
Будет многое множество всячины всякой.
Сквозняков будет столько же, сколько дверей.
Будет хаос...
А я его втисну в хорей.
Буду счастлив. А ты? Отвечай?
Головой не качай.
Я, конечно, не все досказал...
Будет в семечках потный вокзал.
Кипятильник. Слегка недоваренный чай.
Ожиданья.
Но не будет проклятого слова «прощай»...
Ты меня не прощай!
До свиданья!
СОН
Был бой.
И мы устали до потери
Всего, чем обладает человек.
Шутил полковник:
— Сонные тетери... —
И падал от усталости на снег.
А нам и жить не очень-то хотелось, —
В том феврале, четвертого числа,
Мы перевоевали,
Наша смелость,
По правде, лишь усталостью была.
Нам не хотелось жить —
И мы уснули.
Быть может, просто спать хотелось нам.
Мы головы блаженно повернули
В глубоком сне
Навстречу нашим снам.
Мне снился сон.
В его широком русле
Скользил смоленый корпус корабля,
Соленым ветром паруса нагрузли,
Вселяя страх и душу веселя.
Мне снился сон о женщине далекой,
О женщине жестокой,
Как война.
Зовущими глазами с поволокой
Меня вела на палубу она.
И рядом с ной стоял я у штурвала,
А в прибережных чащах,
Невдали,
Кукушка так усердно куковала,
Чтоб мы со счета сбиться не могли.
И мы летели в прозелень куда-то.
Светало на обоих берегах.
Так спали полумертвые солдаты
От Шлиссельбурга в тысяче шагах.
Ночной костер случайного привала
Уже золой подернулся на треть.
Проснулся я.
Кукушка куковала,
И невозможно было умереть.
* * *
Что мне делать в «стреле» —
В отошедшем от города поезде?
Я ходил по земле,
Как герой по удавшейся повести.
Рельсы воинских лет
День и ночь под бомбежкой гудели.
Мой транзитный билет
Затерялся в четвертом отделе.
Там, где ладожским льдом
Холод намертво вымостил трассу,
Поезд стал. А потом
Нас в колонну построили сразу.
И блокадная мгла
Сразу полк засосала по пояс.
Мчится, мчится «стрела» —
Отошедший от города поезд...
Что мне делать в «стреле»?
Не надумаю, честное слово!
Я качался в седле
В эскадронах комкора Белова.
Много сбитых подков
Наши кони теряли в те годы,
Чтоб во веки веков
Были счастливы все пешеходы.
Воет ветер во мгле,
Над ступеньками тамбура гулкого...
Что мне делать в «стреле»
В десяти километрах от Пулкова?